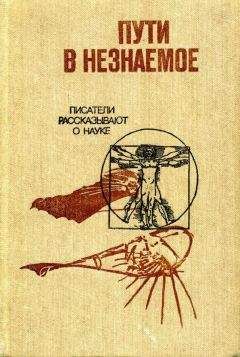А назавтра… Если бы все свершалось так, как поется в песнях! И разве он, Максим Смотрицкий, совсем в стороне от всего этого?
Он нашел себе приют в имении княжеской семьи под городом Минском. Мог проводить часы и дни в отведенной ему библиотечной комнате, погруженный в чтение и писание. Книжный человек, отрешенный от жизни? О, далеко уж не так!
Вот эта книжка оказалась последней каплей. Еще одно сочинение Петра Скарги. Выпущенное в Вильно, выпущенное на русском языке. Соловьиная песнь Брестскому собору, воспевание щедрот унии и грозный рык на тех, кто продолжает упорствовать. Читая, Максим не сдержался и в сердцах написал на полях: «Не последний герц иезуитской роты!» Может быть, с этого замечания и созрела окончательно его решимость действовать. А его действие — это его слово.
Все, что видел и переживал эти годы, начиная еще с дней в Академии и прихода унии, что таил про себя, что накапливалось тяжелым грузом, выливалось сейчас в его слове. Сказанном на бумаге и сказанном громко в открытую. Он много пишет. Он идет на паперть местной церкви и там обращается к прихожанам-белорусам с жаркой речью. К братьям своим по вере, пробуждая в них надежду и твердость. Не поддаваться в хитрые сети. К нему стекаются за советом, за утешением. И он находит такое слово. Немало из принявших унию стали возвращаться в свое родное лоно. В Минске горожане тоже основали братство — по примеру виленского, по примеру Львова, Гродно, городов Западной Руси.
И все-таки в Вильно, в Вильно! Теперь он убежден, что именно там его место.
…Город еще не остыл от последнего потрясения. Униаты, все увеличивающиеся в числе, все больше и больше забирающие силу, учинили погром в православных кварталах. Били стекла в домах, выгоняли из братской школы детей, пытались поломать типографию. Били людей, кто попадался под руку… Стон чудится Максиму Смотрицкому, шагающему по тесным израненным уличкам. А как ты, Петр Скарга, пребывающий в королевских покоях? Неужели ты этого и хотел? Слышишь ли ты сей стон?
Максим поселяется в одной из этих уличек. Вступает в члены братства, упрямо поднимающего все же голову. Становится дидаскалом — учителем школы. А у себя дома работает и работает опять как книжный человек. Рядом стены Святодуховского монастыря — прибежище для многих, чтобы не пасть духом. А напротив, на другой стороне улицы, — стены монастыря св. Троицы, отданного теперь в распоряжение униатов. Глубокие затененные ворота, узкий переход, будто через крепостной ров. Они стоят, оба монастыря, друг против друга как две крепости, откуда ведется все время друг за другом пристальное наблюдение, словесная дуэль, совершаются вылазки и попытки «расширить свою территорию». Нападающей стороной чаще всего была униатская.
Говорят, Максим Смотрицкий несколько раз ходил туда украдкой через улицу, в троицкие стены, пытаясь там что-то выяснить, понять тех других и, может быть, устроить публичный диалог двух сторон, чтобы найти путь к примирению. Но получил такое внушение от собственных братьев по братству, что бросил и помышлять о подобных прогулках к соседям.
А немного дальше над городскими строениями высится строгий силуэт академического костела. Оттуда ведь тоже пощады не жди.
На следующий год выходит в братской друкарне увесистый томик в полтыщи страниц под названием «Фринос», по-гречески — «Плач». Плач восточной церкви. В образе матери, стенающей о своей тяжкой доле: «Горе мне, несчастной!.. Руки в оковах, ярмо на шее, путы на ногах, цепь на бедрах, обоюдоострый меч над головой… Отовсюду крики, везде страх, везде преследование». Картина, увы, всем знакомая. В поэтической форме народного плача рисует ее автор. «Беда в городах, беда в селах, беда в полях и дубравах, беда в горах и пропастях земных. Нет ни места покойного, ни убежища надежного».
Какое сердце униженного и оскорбленного не содрогнется от этих строк! А виной всему, считает автор, именно тот, кому заставляют слепо поклоняться. «Не святой, не благословенный, не праведный, а губящий души льстец, надутый баловень мира сего», — говорит о папе римском в отчаянной запальчивости. Вспоминает все ужасы насильственного униатства. Бросает горестный укор тем, кто поспешил предать свою веру: «Придет время, когда вам стыдно станет за все это». Воздается и Петру Скарге, сыгравшему столь роковую роль.
Не пощадил автор и православного духовенства. Его нравы и порядки. «Неучи, лежебоки, фарисеи, несправедливые судьи», — перечислял с болью. Как же с такими пастырями отстаивать свое родное?
Автор «Плача» взывал не только к чувствам — к разуму. Увлекал остротой мысли, широтой взгляда. Множество примеров, сравнений — исторических, литературных. Приводил суждения мыслителей разных веков, от философов древности, от первых христианских богословов и восточного энциклопедиста Авиценны до главы современного европейского гуманизма Эразма Роттердамского. Поместил здесь и знаменитый сонет Петрарки «Папскому двору»:
Риме — источник горестей, доме — гнева полный,
Рассадник бед, ересей костел отменный,
Римом ты был, а теперь стал Вавилоном… —
сначала по-латыни, а затем перевод его на польский, впервые на польском, чтобы возможно более широкий круг читателей мог с ним ознакомиться.
Ни одно полемическое сочинение последнего времени не вызвало такого всеобщего интереса, такого взрыва страстей, восхищения и злобы, как этот томик в четыреста с лишним страниц. «Фринос», «Плач», — говорили коротко, и всем было понятно, о чем речь. Его читали и в одиночку, и на тайных братских сходках. Его переписывали для передачи друг другу.
Но кто же это написал, кто автор? На титуле значилось: Феофил Орфолог. Перевод с греческого на славянский, а с него — на польский. Тройная ступень. Но было ясно: кто-то утаивается под этим греческим именем, — уж слишком полная осведомленность во всех обстоятельствах местной борьбы вокруг униатства.
Иезуиты и приверженцы унии поспешили ответить целым роем летучих писаний, эпистол против «Плача», пытаясь ослабить его воздействие. Обвиняли автора во всех смертных грехах. Клеймили государственным изменником, сообщником Лютера. Конечно, немедленно отозвался и Петр Скарга, выпустив словесные стрелы под названием «Предостережение Руси греческой веры против плача Феофила Орфолога», не останавливаясь в своей ярости и перед прямой угрозой: «Погоди, ты скрываешь свое имя; будучи волком, прикрываешься овечьей шкурой, но мы скоро узнаем, кто ты и как тебя зовут!»
Не пустая угроза. Следует королевский указ. Братская типография в Вильно закрыта, сохранившиеся в типографии экземпляры зловредной книжки уничтожены. Каждый, кто дерзнет ее распространять и переписывать, подлежит штрафу в пять тысяч злотых. Корректор типографии посажен в тюрьму. То же ожидает и автора, как только до него доберутся.
Но дознаться так и не смогли. Работники друкарни упрямо хранили круговое братское молчание.
А между тем вон он идет мимо по уличке — в скромной одежде, борода лопатой, священнического вида… Дидаскал, по-здешнему, учитель братской школы, с учебниками под мышкой, Максим Смотрицкий.
О, если бы Скарга вдруг узнал, что неизвестный автор, до которого он так допытывается, не кто иной, как бывший воспитанник его Академии, которому именитый иезуит давал когда-то, в далекий памятный день, свое напутственное благословение! Если бы…
Все больше предметов вел он в школе. Серьезные предметы. Уроки философии, занятия по риторике. Обучал, конечно, языкам — и классическим, и старославянскому. Многое из того, что познал в студенческие годы в Академии, передавал теперь ученикам братской школы, которая существовала как бы в противовес школе иезуитской. Умел так воздействовать своей речью, что вскоре стал воистину Учителем, в котором нуждались и млад и стар в братской общине.
И все же он готовился неустанно к тому, в чем видел исполнение своего главного долга. Наконец решил, что срок настал.
В тот день приходит он в храм Святодуховского монастыря, получает отпущение грехов и перед всем клиром принимает обряд пострижения. И берет себе имя монашеское — Мелетий. Отныне Мелетий Смотрицкий.
Затворившись в монастырской келье, накладывает на себя обет: совершить завещанное ему свыше. Кто же еще, как не он, должен это сделать!
Он знал, какой силой обладает слово. Произнесенное, написанное. Сам владел им искусно. И был сейчас одушевлен желанием передать эту силу языка своим братьям по крови, по вере.
Старославянский. Ставший издавна на Руси языком книжным. Орудие грамотности и просвещения. На нем говорит церковь, читаются молитвы, потому и называется еще церковнославянским. На нем пишутся духовные, богослужебные книги, переводные и оригинальные сочинения, порой важные грамоты. Он и опора, защита в трудный час от чужеземной «ласки».