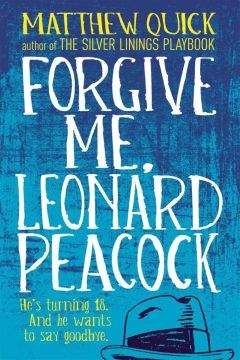Когда Шрёдингер опубликовал свою статью, доказывавшую равносильность его и Гейзенберговой теорий, никто все равно тогда не понял подлинного толкования предложенной Шрёдингером формулировки. И все же его доказательство явило, что в будущей работе станет ясно: его подход поднимал те же философские вопросы, какие уже были очевидны в Гейзенберговой версии теории. И после этой статьи Шрёдингера Эйнштейн более никогда ничего одобрительного про квантовую теорию не напишет.
На квантовую теорию вскоре ополчился и сам Шрёдингер. Он заявил, что не стал бы публиковать свои статьи, знай он, «к каким последствиям это может привести»[387]. Он разработал свою с виду безобидную теорию, желая предложить альтернативу неудобоваримым взглядам Гейзенберга, но равносильность двух теорий означала, что сам он не сознавал возмутительных следствий своей же работы. В итоге он лишь подлил масла в огонь и подтолкнул рождение новых квантовых представлений, которые не склонен был принять.
В необычайно эмоциональном примечании к своей статье о равносильности Шрёдингер написал, что он «чувствует обескураженность, если не сказать отвращение»[388] к методам Гейзенберга, «кои представляются мне очень трудными и лишенными возможности визуализации». Отвращение, как выяснилось, было взаимным. Прочитав статью, в которой Шрёдингер представлял свою теорию, Гейзенберг написал Паули: «Чем больше я думаю над физической частью статьи Шрёдингера, тем отвратительнее она мне кажется… написанное Шрёдингером о возможности визуализации его теории – чепуха»[389].
Соперничество оказалось односторонним: метод Шрёдингера быстро стал излюбленным подходом большинства физиков – для решения большинства задач. Ряды ученых, взявшихся за квантовую теорию, быстро расширились, а применявших метод Гейзенберга – поредели.
Даже Борн, содействовавший Гейзенбергу в разработке его теории, предпочел метод Шрёдингера, а друг Гейзенберга Паули восхищался, до чего проще выводить спектр водорода с помощью уравнений Шрёдингера. Гейзенбергу это все страшно не нравилось. Бор меж тем сосредоточился на понимании соотносимости двух теорий. В конце концов британский физик Поль Дирак предложил исчерпывающее объяснение глубокой связи между ними и даже изобрел собственную гибридную математическую трактовку – как раз ее все и предпочитают ныне, – которая позволяет ловко перемещаться от теории к теории, в зависимости от конкретной задачи. К 1960 году накопилось более 100 000 статей[390], посвященных применению квантовой теории.
* * *
Вопреки любым прорывам в квантовой теории подход Гейзенберга навсегда останется в ее сердце: ученого вдохновляло желание исключить классическую картину, в которой у частиц есть траектории или пространственные орбиты, и в 1927 году он наконец издал статью, гарантировавшую ему победу в этой войне. Он раз и навсегда доказал, что, какую математическую трактовку ни применяй, дело упирается в научный принцип – мы его знаем как принцип неопределенности: представлять себе движение по-ньютоновски – без толку. Хотя взгляды Ньютона на действительность могут показаться эффективными на макроскопическом уровне, в масштабах атомов и молекул, из которых макроскопические объекты состоят, Вселенной управляют совершенно иные законы.
Принцип неопределенности регулирует, что мы можем знать в любой заданный момент времени о любой паре наблюдаемых величин – положении в пространстве и скорости[391]. Это не ограничение в методиках измерения и не предельность человеческой находчивости – это ограничение, наложенное самой природой. Квантовая теория утверждает, что предмет не имеет точных свойств – положения в пространстве и скорости, и, более того, при попытке их измерить чем с большей точностью измеряется одна величина, тем меньше точности в измерении второй.
В повседневной жизни мы, конечно же, можем – вроде бы – измерить положение в пространстве и скорость сколь угодно точно. С виду – противоречие принципу неопределенности, однако, если проделать математические расчеты по квантовой теории, обнаружится, что массы привычных предметов до того громадны, что принцип неопределенности неприменим к явлениям повседневности. Вот почему Ньютонова физика так славно применялась столько лет: границы Ньютонова завета проступили, только когда физики взялись за явления в масштабах атома.
К примеру, представим, что электроны имеют массу футбольного мяча. Тогда, если зафиксировать положение электрона с точностью до одного миллиметра в любую сторону, все равно можно измерить его скорость с точностью даже большей, чем плюс-минус одна миллиардно-миллиардно-миллиардная километра в час. Этого всяко достаточно для любых нужд, к каким мы могли бы применить эти расчеты на практике. А вот настоящий электрон, поскольку он гораздо легче футбольного мяча, – совсем другое дело. Если измерить положение настоящего электрона с точностью, соответствующей примерно размерам атома, принцип неопределенности утверждает: в этом случае скорость электрона не может быть определена точнее, чем плюс-минус тысячи километров в час, – такова разница между неподвижным электроном и движущимся со скоростью реактивного самолета. Вот где Гейзенбергу воздаяние: те самые ненаблюдаемые орбиты в атоме, описывающие точную траекторию движения электрона, как ни крути, запрещены самой природой.
Чем больше накапливалось знаний о квантовых явлениях, тем яснее становилось, что в квантовом мире нет определенностей, а есть лишь вероятности – никаких «да, будет так», а лишь «разумеется, что угодно из перечисленного может случиться». В Ньютоновом мировоззрении состояние Вселенной в любой момент времени в будущем или прошлом оттиснуто во Вселенной в настоящем, и, применяя законы Ньютона, кто угодно с должным уровнем развития ума сможет этот оттиск разобрать. Будь у нас вдосталь физических подробностей о внутреннем устройстве Земли, мы могли бы предсказывать землетрясения; знай мы все физические нюансы, касающиеся погоды, могли бы, в принципе, с определенностью сказать, пойдет ли завтра дождь – или через сто лет после завтра.
Этот ньютоновский «детерминизм» – суть Ньютоновой науки: представление о том, что одно событие есть причина следующего и далее, и что все можно предсказать, применив математику. Это часть озарения Ньютона, определенность головокружительного свойства, какая вдохновляла всех, от экономистов до социологов, «заказать себе того же, что подали физике»[392]. Но квантовая теория говорит нам, что в ее сути – на фундаментальном уровне атомов и частиц, из которых состоит всё, – мир не однозначен, что текущее положение Вселенной не определяет ее будущих (или прошлых) событий, а лишь вероятность одного из многих альтернативных вариантов будущего (или случившегося прошлого). Мироустройство, говорит нам квантовая теория, подобно гигантской игре в «бинго». Именно в ответ на эти соображения Эйнштейн сделал в письме Борну свое знаменитое заявление, что «[квантовая] теория много чего сообщает, но вряд ли приближает нас к тайне Старца. Я в любом случае убежден, что Он не играет в кости»[393].
Интересно, что Эйнштейн в этом заявлении обращается к понятию Бога – Старца. В традиционную личность Бога, как, скажем, в Библии, Эйнштейн не верил. Для Эйнштейна «Бог» – не игрок, вовлеченный в интимные стороны наших жизней, а скорее представление о красоте и логической простоте законов мироздания. И потому, сказав, что Старец не играет в кости, он имел в виду, что роль случайности в великом устройстве природы он, Эйнштейн, принять не может.
Мой отец не был ни физиком, ни игроком в кости, и, живя в свое время в Польше, понятия не имел, какие великие события происходят в физике – всего в нескольких сотнях миль от него. Но когда я объяснил ему принцип неопределенности квантовой теории, ему она досадила гораздо меньше, чем Эйнштейну. С точки зрения моего отца, поход за постижением Вселенной заключается главным образом не в наблюдениях в телескопы или микроскопы, а, скорее, в сути человеческого. И потому, как он для себя понял из своей же жизни Аристотелево разделение естественных и насильственных перемен, так же и его прошлое упростило ему переваривание и случайности, заложенной в квантовой теории. Он рассказал мне, как стоял как-то раз в длинной цепочке на городской рыночной площади, куда нацисты согнали тысячи евреев. Когда началась облава, он спрятался в нужнике, вместе с беглым главарем подпольщиков, которого ему было велено защищать. Но ни тот, ни другой не смогли выдержать вонь и в конце концов вылезли наружу. Беглец удрал, и никто его больше никогда не видел. А моего отца загнали в конец собранной шеренги.