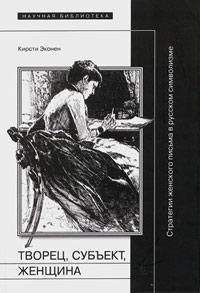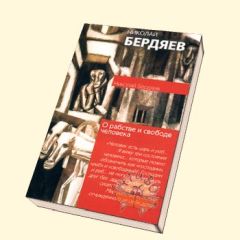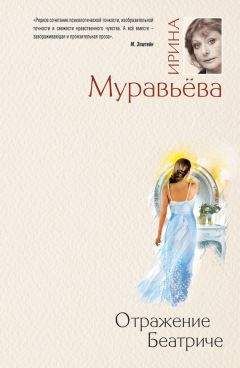Сравнивая «божественно полную» лесбиянскую пару Зиновьевой-Аннибал с божественной цифрой два (сонет «Цифра 2») Л. Вилькиной, можно увидеть основное различие: для Вилькиной вытекающий из символистского эстетического дискурса мифологический резерв служил средством конструирования женской субъектной позиции. Как и Леблан, Вилькина пыталась конструировать женскую субъектность, используя определенные характеристики андрогинности. Судя по повести «Тридцать три урода», Зиновьева-Аннибал не следует этим идеям ни в описании лесбиянства (как стратегии), ни в идеале андрогинности. Повесть скорее разрушает, чем конструирует: символистский метафорический гендерный резерв оказывается не «складом» полезных понятий, как в случае Вилькиной (а также Гиппиус), а объектом пародии и тем самым сопротивления.
Жизнетворчество: театрализация жизни, превращение жизни в произведение искусства
В главе о жизнетворчестве уже шла речь о роли Зиновьевой-Аннибал в кругу петербургской культурной богемы. В рассматриваемой повести «Тридцать три урода» ее личный опыт не получает прямого отражения. В отличие от «Певучего осла» и «Головы медузы» повесть непрямо отражает события или людей символистского окружения[381]. Можно, однако, полагать, что жизнетворческие практики соратников-символистов послужили причиной для обсуждения явления жизнетворчества в художественной форме.
В «Тридцати трех уродах» главные идеи жизнетворчества встречаются в описании персонажей, их поведения и, особенно, в теме написания портрета. Красота как наивысший идеал (в форме женского тела) является общим фоном существования главных персонажей и служит сюжетной основой повести.
Персонажи повести ведут себя согласно правилам жизнетворчества. Обе героини являются актрисами по профессии. В их поведении нет границы между искусством и «настоящей жизнью», а артистизм характеризует их деятельность в целом. Они исполняют театральные роли даже в личной жизни. Нагляднее всего это видно в образе Веры, которая, по формулировке рассказчицы, «сливалась со своей маской». Неоднократно упоминается, как она репетирует роли (например, шекспировского Лира) в своей комнате, украшенной театральными масками. Наконец, она настолько сильно сливается со своей ролью, что не проводит границы между жизнью и искусством. Таким образом, ее личная жизнь становится искусством, а искусство превращается в «реальную» жизнь.
В главе о жизнетворчестве речь шла о том, что театральность, женщина, конструирование жизни и подобие жизни искусству многосторонне взаимосвязаны. Повесть Зиновьевой-Аннибал раскрывает эту взаимосвязь. В повести также демонстрируются коннотации, связанные с профессией актрисы. Следующая цитата из книги Р. Фельски «The Gender of Modernity» хорошо описывает такие коннотации:
The prostitute, the actress, the mechanical woman — it is such female figures that crystallize the ambivalent responses to capitalism and technology which permeated nineteenth-century culture. The list can easily be extended. The figure of the lesbian, for example, came to serve as an evocative symbol of a feminized modernity in the work of a number of nineteent-century male French writers who depicted her as an avatar of perversity and decadence, exemplifying the mobility and ambiguity of modem forms of desire.
(Felski 1995, 20)
Тем самым данная цитата показывает, как далеки были культурные коннотации профессии актрисы от того философе ко-эстетического содержания, которое вкладывал в понятие театра В. Иванов. Подобно многим другим представителям эпохи модернизма, он увидел в театре возможность для синтеза и обновления искусства в целом (см.: Вислова 2000). В. Иванов подчеркивал важность театрального искусства, считая, что театр и драма являются идеальными «средствами» для соборного, религиозного искусства. Идеология жизнетворчества проявляется в стремлении Иванова соединить религию, культ и искусства, а также увеличить участие зрителей в спектакле по модели античной драмы. В повести «Тридцать три урода», однако, нет знаков присутствия высоких идеалов, связанных с жизнетворческим театральным искусством. Скорее в повести проявляется жизнетворчество как артистическое поведение без философского или религиозного наполнения. Вместо соборности описана изолированная жизнь актрис. Вместо религиозного обновления присутствует культ красоты — эстетизм. Никакого синтеза искусств в театральной работе персонажей также не наблюдается. Таким образом, в своем нарциссическом (зеркальном) восхищении друг другом актрисы далеки от тех идеалов, которые заключаются в идее обновления театра по принципам жизнетворчества. Повесть показывает, что женщины из мира театра не могут стать «носителями» высоких идеалов. Повесть также вскрывает причину: в среде модернизма — несмотря на высокую оценку театрального искусства — доминирующее мнение об актрисах было невысокое.
Нагляднее всего жизнетворческие идеалы воплощаются в кульминационных событиях повести: в решении Веры разрешить своей любовнице позировать тридцати трем художникам и в самом написании портрета. Вера испытывает необходимость пожертвовать любовницей, предлагая ее в качестве модели художникам, хотя одновременно она страстно желает иметь ее только для себя. Другими словами, Вера колеблется между желанием считать любовницу лишь своей собственностью и желанием увековечить ее в искусстве[382]. С одной стороны, Вера считает, что, принеся в жертву любовницу, она сможет делить ее красоту с другими людьми (не только иметь у себя). С другой стороны, она считает, что с помощью портрета сможет вечно иметь ее (тело, молодость, красота) у себя. Последний вариант означает, что она делит ее с другими, но тем самым приобретает ее в качестве портрета навсегда. Стремление Веры увековечить свою любовницу в искусстве ассоциируется с деятельностью Пигмалиона, только в обратном порядке[383]. Характерными являются слова Веры: «Не убить ли мне тебя, чтобы иметь навсегда себе одной». Эти же слова связывают идею жизнетворчества — смешения жизни и искусства — со смертью.
Готовые портреты — тридцать три урода — не воплощают идеала жизнетворчества, а являются толчком для событий, ведущих к самоубийству Веры. Когда портреты написаны, рушатся все мечты: оказывается, что произведение искусства не способно «отразить» красоту. В портретах жизнь не воплотилась в искусство[384], нет в них божественного элемента или трансфигурации, подобно тому как в них отсутствует отражение идеи Красоты. Не исполняется также Верино желание увековечить любовницу и иметь ее у себя навсегда. Портреты не символизируют вечность, не функционируют как лестница в иной мир. Вместо символистских идеальных ожиданий события оборачиваются прозаически: натурщица, действительно, не воплотилась в искусстве, а стала любовницей одного из художников. Ни судьба Веры, ни натурщицы не содержит знаков осуществления какого-либо идеала.
Вместо изображения превращения жизни в искусство повесть показывает, что искусство имеет власть над жизнью, но в ином смысле: тридцать три портрета изменили жизнь обеих женщин. Постепенно «она» нашла собственный образ в портретах[385], раздробленный на тридцать три части, а Вера «потеряла» свою жизнь. Более того, в повести слышна проповедь «настоящей жизни» (натурщицы) по сравнению с произведением искусства: жизнь и жизненная красота лишь отчасти отражаются в искусстве. В повести можно обнаруживать также критику «брюсовского» мнения о том, что реальная жизнь служит лишь материалом для искусства. В повести «Тридцать три урода» жизнь в главном оказывается выше искусства. Повесть показывает силу влияния искусства на человека, но указывает также на сложность управления этим влиянием. Ни Вера, ни ее любовница не смогли противостоять силе портретов, нарисованных тридцатью тремя мужчинами. С точки зрения позиции женщины в символистской среде это замечание весьма важно. Повесть Зиновьевой-Аннибал позволяет сделать следующее заключение: искусство и художественные практики имеют сильное воздействие на жизнь, но не в аспекте чистого жизнетворчества.
Дионисийство
В повести «Тридцать три урода» можно найти множество отсылок к дионисийскому мифу, который был разработан в эстетической теории В. Ивановым. Для Иванова дионисийство было жизнестроительным и этическим убеждением, которое получает применение также в эстетической теории. Во внутреннем диалоге с Ницше Иванов рассматривал творчество с помощью понятий аполлонического и дионисийского. Параллельно с этим он описал творческий процесс как восхождение и нисхождение. Аполлон — божество единства, строя и воссоединения, а Дионис — божество раздробленности и множественности. В статье «О существе трагедии» Иванов утверждает, что трагедия является простым видоизменением дионисийского богослужебного обряда (Иванов 1995, 92)[386]. Как и Ницше, он говорит о двуединой природе всякого «художества». Важным в его теории является разрушительный момент, разделение множественного, двучастного бога: