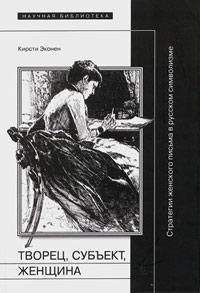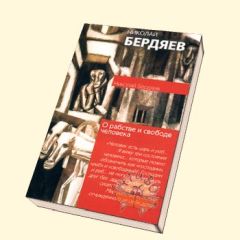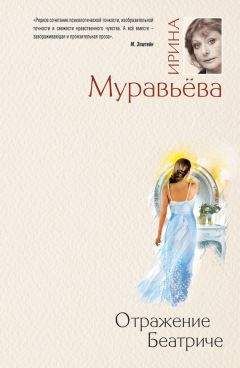В повести «Тридцать три урода» можно найти множество отсылок к дионисийскому мифу, который был разработан в эстетической теории В. Ивановым. Для Иванова дионисийство было жизнестроительным и этическим убеждением, которое получает применение также в эстетической теории. Во внутреннем диалоге с Ницше Иванов рассматривал творчество с помощью понятий аполлонического и дионисийского. Параллельно с этим он описал творческий процесс как восхождение и нисхождение. Аполлон — божество единства, строя и воссоединения, а Дионис — божество раздробленности и множественности. В статье «О существе трагедии» Иванов утверждает, что трагедия является простым видоизменением дионисийского богослужебного обряда (Иванов 1995, 92)[386]. Как и Ницше, он говорит о двуединой природе всякого «художества». Важным в его теории является разрушительный момент, разделение множественного, двучастного бога:
Раздвоение первоначального единства на междоусобные энергии есть коренная идея и глубочайшее переживание Дионисовых таинств.
(Иванов 1995, 95)
В теории дионисийского искусства Иванова важное место занимает тема жертвы. Ее воплощает жертвующий своей цельностью Дионис[387]. Прообразом жертвы является, как известно, атрибут Диониса — виноград и процесс изготовления вина, которое готовится из раздробленных виноградных гроздьев. В дионисийском мифе воплощается старинная, архетипичная формула, где смерть является предпосылкой нового рождения. Понятие жертвы хорошо вписывается в концепцию искусства как формы религии, выдвинутую русским символизмом.
Верино разрешение рассказчице позировать перед художниками можно прочитать в дионисийском ключе: ведь Вера воспринимает свое решение отдать любовницу художникам как жертву[388]. Ее реплики свидетельствуют, что она действует согласно «ивановским» идеалам. Дионис — «жертва, и он же жрец», — говорит Иванов (Иванов 1995, 95). Она «как жертва и богиня», — говорит Вера о своей любовнице в «Тридцати трех уродах». Помимо истолкования в платоновском контексте, движение персонажей по лестнице можно интерпретировать также в рамках «дионисийской» модели творчества. Иванов представлял ее в форме «восхождения» и «нисхождения». В повести это проявляется так: сначала героини «восходят» в квартиру Веры, оттуда они «нисходят» в мастерскую художников, в конце концов, любовница покидает Веру и спускается вниз по «бесконечно длинной» лестнице на улицу. Чтение повести в дионисийском ключе показывает, что, хотя пространственная структура повести следует модели восхождения и нисхождения, в повести не обнаруживается никакого положительного результата дионисийского нисхождения. Окончательным «разрушительным моментом» повести является рисование портрета, которое не ведет к новому соединению или новому рождению, а, наоборот, — к смерти и раздробленности. Можно заключить, что, подобно вышерассмотренным пунктам символистской эстетики, дионисийская модель творчества в повести также остается поверхностной, формально как бы согласующейся с эстетическими требованиями, но содержательно пустой и никуда не ведущей, даже, по сути дела, противостоящей дионисийской концепции творчества. К тому же вместо нового рождения в «Тридцати трех уродах» фигурирует смерть. Подобно платоновской концепции однополой любви, дионисийская модель также оборачивается своей изнанкой.
Святая Агата и жертва женщины на алтарь искусства
Все рассмотренные выше отсылки к эстетике и идеологии символизма: однополая любовь, комплементарность, жизнетворчество и дионисийский миф — показаны в «Тридцати трех уродах» с женской точки зрения. Повесть Зиновьевой-Аннибал доводит до абсурда многие центральные убеждения символистской эстетики. Такая карнавализация происходит «под маской»: она запрятана за формальными кулисами символистской эстетики и типичной для символизма мотивной системы. В повести также отсутствует открытое обсуждение значения центральных концепций символизма для женщин на тематическом уровне. В данной главе я покажу, что такая замаскированная дискуссия происходит на «подсознательном уровне» произведения. Изучение с этой точки зрения повести, по моему утверждению, обнаружит итоговые размышления автора над проблемой «женщина в модернизме».
В основе моей интерпретации и понимания «подсознательного» уровня художественного текста лежит литературоведческое применение психоаналитической теории о проявлении подсознательного на символическом уровне[389]. Подсознательное выявляет себя с помощью перехода (transfer). В этом процессе психически значимая «вещь» «переходит», перемещается через смысловые поля и проявляется в какой-то, самой по себе незначительной детали. В таком процессе некое, важное для говорящего / пишущего значение появляется в «замаскированном» виде, как бы из другого места. С помощью перехода то, что подавлено, вытеснено из сознания в подсознание, находит дорогу в символический мир. Настоящая сущность перехода раскрывается по пути следования цепи ассоциаций.
В «Тридцати трех уродах» переход значения совершается в том месте текста, где содержится упоминание о картине, изображающей святую Агату. Интерпретация отрывка добавляет новые аспекты к той дискуссии, которую повесть ведет с символистской эстетикой. Дело в том, что картина святой Агаты, как я покажу ниже, является mise en abyme. Как утверждает Л. Делленбах, mise en abyme является миниатюрным воспроизведением целого произведения, ее метафиктивным самоотражением. Другими словами, mise en abyme представляет целое произведение в отдельном образе или абзаце текста. Часто этот элемент приобретает форму произведения искусства. Mise en abyme способен указывать на генезис произведения и сообщать информацию, связанную с вопросом о его авторстве. В художественном произведении mise en abyme функционирует именно как трансфер (переход) значения в психологическом процессе. Mise en abyme указывает путь, ведущий к более глубокому уровню, в пространство запрещенного или чужого (см.: Dällenbach 1989, 41–54, см. также: Weir 2002, хх-xxiv)[390].
Упоминание о картине со святой Агатой, mise en abyme повести «Тридцать три урода», содержится в отрывке текста, где рассказчица, будучи одна в квартире Веры, записывает свои чувства в дневник:
Плачу еще. Пишу и плачу.
Весь день лежала грудью в подушку.
Веры не было весь день. Ее где-то празднуют. Куда-то повезли.
Вдруг стало страшно.
Какая моя странная судьба! Я верю в судьбу.
Вспоминала картину-копию с какой-то итальянской картины, кажется св. Агата. Ей вырывают железом соски, и двое мучителей с таким любопытством одичалым заглядывают в глаза. А глаза Агаты блаженные, блаженные, блаженные.
Я часто молилась ей у бабушки, но с собой не взяла. Думала: у Веры все другое.
Теперь скучаю. Она бы утешила.
Мне страшно. От этого я села вот записывать. Так меня учила делать Вера, когда ее нет дома.
(1907, 26–27)
В цитированном отрывке рассказчица записывает в дневник свои чувства и мысли. Ей было скучно, потому что не было Веры. Она вспоминает время, когда жила у бабушки, которая воспитала ее. В момент саморефлексии в ее мыслях появляется воспоминание о картине-копии святой Агаты. Картина-копия активизирует житие святой Агаты целиком. Житие св. Агаты, как я покажу ниже, изоморфно кульминационным событиям повести.
В целом данный металитературный отрывок текста содержит размышления героини над своей судьбой. Что важно, в момент размышлений она осознает себя как пишущий субъект. В этом заключается явная отсылка к проблеме авторства. Важность отрывка заключается в том, что в нем тема письма (писания) ассоциируется с фемининностью, символом которой является центральный во всей повести образ груди. В данном отрывке образ груди получает особенное значение вследствие того, что мученичество святой Агаты реализовывалось в вырывании сосков (см. ниже). Через образ Агаты письмо (писательство) и грудь ассоциируются со страданием. Далее, страдание — мученичество и жертва Агаты — отсылает к центральным эстетическим категориям символизма, к «религии страдающего бога», к Дионису. Итак, приведенный отрывок текста содержит все характерные для всей повести проблемные моменты: авторефлексивность (металитературность), категорию «фемининного», искусство и страдание (жертву). В отличие от «сознательного» слоя ассоциативная цепь данного авторефлексивного отрывка текста связывает друг с другом фемининность и жертву, и символом этой соотнесенности является святая Агата.
Святая Агата почитаема прежде всего в католической церкви, и поэтому в русской литературе ее образ встречается нечасто[391]. Согласно житию, включенному в корпус русской агиографии, Агата (в греческой и русской традиции ее имя — Агафия) была богатой и благородной молодой христианкой — уроженкой Сицилии, жившей в III веке. Она претерпела гонения от Декия. Правитель области Квинтиан был поражен ее красотой и старался отвлечь ее от христианства. Сначала он предлагал Агате роскошную жизнь. Затем он поместил ее в дом Афродисии, которая с пятью дочерьми вела веселую и полную удовольствий жизнь. Есть версии жития, по которым дом Афродисии был публичным домом. Агата имела крепкую веру, и, наконец, Афродисия сказала Квинтиану: