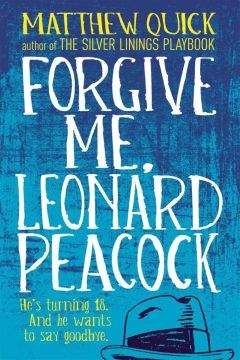Хотя квантовая теория, разработанная великими первоисследователями кванта, не меняет нашего описания грубой физики макромира, она революционизировала наш образ жизни и изменила человеческое общество столь же мощно, как и промышленная революция. Законы квантовой теории лежат в основе всех информационных и коммуникационных технологий, перелицевавших современное общество, – компьютеров, интернета, спутников, сотовых телефонов и всей электроники. Но не менее важно, чем ее практические применения, то, что квантовая теория сообщает нам о природе и о науке.
Победа ньютоновского мировоззрения обещала нам, что, при верно проделанных математических расчетах, человечество сможет предсказывать и объяснять природные явления, и ученые во всех областях интеллектуальной деятельности желали «ньютонизировать» свои дисциплины. Физики-квантовики первой половины ХХ века пресекли эти стремления и явили истину по сути своей и придающую сил, и глубоко смиряющую. Сил она придает, потому что квантовая теория показывает: мы можем постигать незримый мир, не подвластный нашему прямому наблюдению, и манипулировать им. Смиряет же эта истина тем, что на протяжении тысячелетий развитие науки и философии подсказывало: наша способность понимать беспредельна, но теперь природа, заговорив языком великий открытий в квантовой физике, сообщает нам, что нашим познаниям и власти есть предел. Более того, квант напоминает нам, что может существовать другой незримый мир, что Вселенная – место чрезвычайно таинственное, и сразу за горизонтом могут скрываться многие необъяснимые явления, требующие новых революций мышления и теории.
На этих страницах мы преодолели миллионы лет, начав с первых людей, сильно отличных от нас с вами и физически, и умственно. В этом четырехмиллионолетнем странствии мы вступили в наше время всего лишь мгновение ока назад, но успели при этом познать законы, управляющие природой, – однако в этих законах сокрыто гораздо больше, чем мы переживаем в повседневности: «И в небе, и в земле сокрыто больше, – как говорил Гамлет Горацио, – чем снится вашей мудрости»[407].
В обозримом будущем наше знание продолжит прирастать, а с поправкой на экспоненциальный рост числа людей, занятых в науке, резонно предположить, что следующий век принесет нам открытия столь же великие, какие подарило последнее тысячелетие. Но если читаете эту книгу, вы знаете, что дело, скорее, в вопросах, задаваемых людьми о том, что нас окружает, нежели в технике, – мы, люди, видим в природе красоту и ищем смыслы. Нам нужно не просто знать, как устроена Вселенная, – нам важно постичь, каково наше место в ней. Мы хотим понять контекст своей жизни, своего конечного существования и ощутить связь с другими людьми, с их радостями и печалями, и с безбрежным мирозданием, в котором наши радости и печали играют совсем крошечную роль.
Понять и принять свое место во Вселенной может быть непросто, но такова с самого начала одна из целей тех, кто изучает природу, – от древних греков, считавших науку, наряду с метафизикой, этикой и эстетикой, ветвью философии, до первопроходцев науки Бойля и Ньютона, изучавших природу с целью понять суть Бога. Для меня связь между прозрениями о мирах физическом и человеческом ярче всего проявилась, когда я был в Ванкувере на съемках телесериала «Макгайвер». Я написал сценарий к снимавшейся тогда серии и приехал объяснять бутафорам и декораторам, как выглядит лаборатория физики низких температур. Вдруг посреди этих обыденных технических бесед я впервые прозрел: я понял, что мы, люди, совсем не выше природы, а просто приходим и уходим, как цветочки – или как вьюрки Дарвина.
Все началось с телефонного звонка, который перевели из конторы производства фильма на съемочную площадку. Вызывали меня. В те дни, до того, как у всякого двенадцатилетки возник мобильный телефон, принимать звонки на площадке было делом необычайным, и я обычно мог ответить на сообщения лишь через много часов после их поступления – мне их передавали на бумажках, исписанных вручную. Сообщения типа: «Леонарду: <неразборчиво> хочет, чтобы вы <неразборчиво>. Говорит, срочно! Перезвоните ему на <неразборчиво>». На этот раз все было иначе. Помощник продюсера принес мне телефон.
На другом конце был врач из больницы Университета Чикаго. Он сообщил мне, что мой отец пережил инсульт и находится в коме – отсроченный результат операции, проведенной за несколько месяцев до этого: отцу чинили аорту. К ночи я уже был в больнице и смотрел на своего отца – тот лежал на спине, глаза закрыты, вид умиротворенный. Я присел рядом и погладил его по волосам. Он был теплый на ощупь, живой, словно уснул, словно того и гляди проснется, улыбнется мне, протянет мне руку и спросит, не съем ли я с ним ржаного хлеба с маринованной селедкой на завтрак.
Я заговорил с ним. Сказал, что люблю его, – так же, как много лет спустя буду говорить это своим спящим детям. Но врач подчеркнул, что мой отец не спит. Он не услышит меня, сказал врач. Он сообщил, что, судя по показателям работы отцова мозга, можно считать, что он мертв. Теплое тело моего отца было словно та физическая лаборатория в «Макгайвере» – фасад, снаружи в прекрасной форме, но вообще же лишь оболочка, не способная на осмысленное существование. Врач сказал, что кровяное давление у отца будет постепенно снижаться, дыхание – замедляться, пока он не умрет.
В тот миг я возненавидел науку. Я хотел, чтобы она во всем заблуждалась. Кто они такие, эти ученые и врачи, чтобы рассказывать тебе судьбу человека? Я бы отдал всё, что угодно, лишь бы вернуть отца, пусть хоть на денек, на час или даже на минуту – чтобы сказать ему, что я его люблю, попрощаться. Но конец наступил в точности так, как предсказывал врач.
То был 1988 год, а моему отцу было семьдесят шесть. После его смерти наша семья «отсидела шиву» – это такое традиционное семидневное поминовение, когда три раза в день молишься и не выходишь из дома. Всю свою жизнь я проболтал с ним у нас в гостиной, а теперь сидел в этой же гостиной, где отец остался лишь памятью, и я знал, что больше никогда с ним не поговорю. Благодаря проделанному человечеством интеллектуальному пути я знал, что его атомы все еще существуют, и так будет всегда, но понимал я и то, что, хоть атомы его и не умерли с ним вместе, они рассеются. Их соединение в одно существо, которое я знал как моего отца, распалось и более никогда не случится, если не считать тени в моем сознании и в сознании других, кто его любил. И я знал, что через несколько десятков лет то же случится и со мной.
К моему удивлению я понял тогда, что постигнутое мной в попытках разобраться в физическом мире не сделало меня бесчувственным – оно придало мне сил. Помогло преодолеть муку расставания, почувствовать себя не таким одиноким, потому что я – часть чего-то куда более великого. Оно открыло мне глаза на потрясающую красоту нашего бытия, сколько бы ни было отпущено нам лет. Мой отец, несмотря на то, что он так и не получил возможности поступить даже в старшие классы, тоже премного почитал устройство физического мира и очень им интересовался. Я как-то раз сказал ему в одном из наших разговоров в гостиной, что однажды напишу про это. Наконец, много десятилетий спустя, – вот она, эта книга.
Мой отец, в тот вечер, когда он сделал предложение моей матери, Нью-Йорк, 1951 год
Есть одна старая загадка о монахе, который однажды на рассвете отправляется из своего монастыря в храм на вершине высокой горы[408]. Тропа на вершину одна, довольно узкая и извилистая, и монах идет неспешно, ибо витки тропы забираются вверх круто, но незадолго до заката добирается к храму. На следующее утро он спускается по тропе, вновь отправившись на рассвете, и к закату оказывается у себя в монастыре. Вопрос: есть ли место на тропе, которое монах пройдет в одно и то же время и на пути туда, и на пути обратно? Задачка не определить точное место, а лишь сказать, есть такое место или нет.
Эта загадка не из тех, что построены на уловке, или скрытой информации, или неожиданной интерпретации какого-нибудь слова. На тропе нет алтаря, у которого монах молится каждый полдень, вам не нужно ничего знать о скорости восхождения или спуска, никаких недостающих вводных, о которых вам придется догадаться, чтобы найти ответ. Она, эта загадка, и не из тех, в которых вам рассказывают, что А и Б сидели на трубе, А упало, Б пропало, а потом спрашивают, что осталось на трубе, и ответ – «и». Нет, здесь история без особых затей, и вы, вероятнее всего, с первого раза узнали все необходимое, чтобы найти ответ.
Подумайте чуточку, ибо ваш успех в отгадывании, как и ответы на многие вопросы, на которые пытались ответить ученые за многие века, может показать, насколько вы терпеливы и настойчивы. Еще важнее вот что: как знают все хорошие ученые, от этого будет зависеть ваша способность задавать правильные вопросы, шагнуть назад и смотреть на задачу под слегка другим углом. Стоит это проделать, и ответ дастся вам легко. Именно найти этот угол – вот что может быть непросто. Вот почему создание Ньютоновой физики, Периодической таблицы Менделеева и теории относительности Эйнштейна потребовало появления людей с могущественным интеллектом и оригинальностью мышления, но все же и то, и другое, и третье доступно пониманию – их может объяснить любой студент колледжа, изучающий физику и химию. И потому то, на чем вывихивает ум одно поколение, становится общим знанием для следующего, а ученым по силам взбираться все выше и выше.