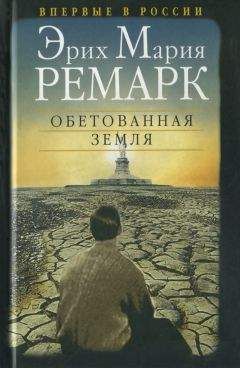Хирш рассмеялся.
— Храни тебя Бог, Камп, — сказал он. — Ты спасен.
— А почему бы и нет? — удивленно спросил Камп. — Вы полагаете, мне надо было прийти в моем коричневом костюме? — Он замер, уставившись на загроможденную витрину, перед которой внезапно появилась Кармен. — Я бы мог… — Он снова умолк и продолжал глазеть на Кармен.
— Слишком поздно, — сказал Роберт Хирш. — Кофе уже поставлен, Георг. Ради такого праздника я пожертвовал свою лучшую электрокофеварку.
В магазин вошла Кармен. Следом за ней с большой картонной коробкой впорхнула женщина-чижик. Это была Катарина Елинек, жена профессора, оставшегося в Австрии. Катарина была еврейкой, профессор Елинек — нет. Он развелся с ней и отправил ее за границу. В Вене за ней уже дважды приходили; он дал ей значительную сумму на переезд. Через Швейцарию и Францию она незадолго до войны добралась до Нью-Йорка, маленькая, измученная, почти без средств к существованию, но с несокрушимой волей. Сначала работала служанкой, потом кто-то обнаружил ее незаурядный талант к выпечке тортов и пирожных и оборудовал у себя на заднем дворе маленькую квартирку, где она смогла заниматься выпечкой. За это ей пришлось спать с хозяином квартирки, как потом и с другими мужчинами, которые ей помогали. Она никогда и никому не жаловалась. Катарина знала жизнь и понимала, что даром ничего не дается. Ей и в Вене пришлось переспать со штурмовиком, который устроил ей заграничный паспорт. Она решила, что будет при этом думать о муже и ничего страшного тогда не случится. На самом же деле она вообще ни о чем не смогла думать. Едва этот потный штурмовик прикоснулся к ней, она превратилась в автомат. Она перестала быть собой. Все в ней заледенело, и она больше не находилась в этом мире. Сознание холодно и ясно было направлено только на одну цель — паспорт. Сама она уже не была женой профессора Елинека, хорошенькой и чуть сентиментальной женщиной двадцати восьми лет, — она была просто кем-то, кому нужно было получить паспорт. Паспорт заслонил собой грех, отвращение, мораль — это все были вещи из иного, забытого мира. Ей нужен паспорт, иначе его добыть невозможно, все, баста. Сквозь грязь этого мира Катарина шла как сомнамбула, и грязь не приставала к ней. Позже, когда ее маленькая пекарня стала пользоваться успехом и кто-то захотел сделать ей предложение, Катарина вообще не поняла, о чем идет речь. Она жила как замурованная. Копила деньги, хотя, казалось, даже не знала ради чего — настолько она отгородилась от всего в жизни. При этом оставалась неизменно дружелюбной, нежной и, как птичка, бездомной. Она пекла лучшие штрудели во всем Нью-Йорке. Против ее маковых рогаликов и штруделей — с сыром, с вишнями, яблоками и творогом — даже пироги и торты Джесси казались жалким дилетантством.
— Это Катарина Елинек, — представил Георг Камп. — Прошу вас, входите и распакуйте свои драгоценности.
Хирш опустил жалюзи на окнах витрины.
— Мера предосторожности, — пояснил он. — Иначе уже через десять минут здесь будет полиция.
Госпожа Елинек вежливо и молча распаковывала свои изделия.
— Люблю сладости, — признался Камп, обращаясь к Кармен. — Особенно творожный штрудель!
Кармен очнулась от своей благостной летаргии.
— Я тоже, — заявила она. — И чтобы взбитых сливок побольше!
— Ну в точности как я! — просиял Камп, не в силах оторваться от ее обманчивой красоты. — И кофе со сливками!
Кармен была в восторге.
— Это писатель Георг Камп, Кармен, — объяснил я. — Единственный жизнерадостный эмигрант из всех, кого я знаю. Раньше он писал ужасно грустные, меланхолические романы. А теперь расписывает мир яркими красками.
Кармен потянулась за куском вишневого штруделя.
— Но это же великолепно! — проворковала она. — Веселый эмигрант! — И, окинув Кампа оценивающим взглядом, протянула божественную руку за маковым рогаликом.
Госпожа Елинек тем временем уже распаковала чашки, тарелочки и приборы.
— За посудой я зайду завтра, — сказала она.
— Да оставайтесь с нами! — воскликнул Камп. — Вместе отпразднуем освобождение от духовности.
— Я не могу. Мне надо идти.
— Но госпожа Елинек! Какие такие у вас неотложные дела? Рабочий день кончился. И у вас тоже!
Камп схватил ее за руку и попытался втянуть обратно в комнату. Внезапно она вся задрожала:
— Пожалуйста, оставьте меня! Мне надо идти. Сейчас же! Простите меня. Мне нужно…
Камп смотрел на нее, ничего не понимая.
— Но что же все-таки случилось? Мы ведь не прокаженные…
— Позвольте мне уйти! — Госпожа Елинек побледнела и дрожала все сильней.
— Позвольте ей уйти, господин Камп, — спокойно попросила Кармен своим глубоким, грудным голосом.
Он немедленно отпустил Катарину. Госпожа Елинек неловко изобразила прощальный жест и выскользнула за дверь. Камп смотрел ей вслед:
— Не иначе приступ эмигрантского бешенства. Все мы время от времени начинаем сходить с ума.
Кармен трагически покачала головой:
— Она сегодня получила телеграмму. Из Берна. Ее муж умер. В Вене.
— Старик Елинек? — спросил Камп. — Тот самый, который ее выставил?
Кармен кивнула:
— Все это время она ради него копила деньги. Хотела вернуться.
— Вернуться? После всего, что случилось — с ней здесь и с ним там?
— Да, хотела. Думала, тогда они зачеркнут все прошлое и начнут жизнь сначала.
— Что за бред!
Хирш посмотрел на маляра:
— Не говори так, Георг. Разве ты сам не хочешь начать сначала?
— Откуда мне знать? Живу как живется.
— Это обычная прекраснодушная иллюзия всех эмигрантов. Все позабыть и начать сначала.
— По-моему, ей радоваться надо, что этот Елинек концы отдал. Для нее же лучше. Не придется привозить в свою теплую пекарню этого типа, который выкинул ее на улицу, словно кошку, и опять служить ему вечной рабыней.
— Люди не всегда понимают, о чем печалятся — о плохом или о хорошем, — задумчиво сказал Хирш.
Камп беспомощно оглядел присутствующих.
— Черт возьми, — сказал он, — мы ведь так хотели повеселиться сегодня.
Вошел Равич.
— Как дела у Джесси? — спросил я.
— Сегодня утром ее отвезли домой. Она стала еще недоверчивей, чем прежде. Чем лучше идет заживление, тем недоверчивее она становится.
— Лучше? — спросил я. — Действительно лучше?
Вид у Равича был усталый.
— Что значит «лучше»? — бросил он. — Замедлить приближение смерти — это все, что в наших силах. Абсолютно бессмысленное занятие, как глянешь в газеты. Молодые, здоровые парни гибнут тысячами, а мы тут стараемся продлить жизнь нескольким больным старикам. Коньяка у вас не найдется?
— Ром, — ответил я. — Как в Париже.
— А это кто такой? — спросил Равич, указывая на Кампа.
— Последний жизнерадостный эмигрант. Но и ему оптимизм нелегко дается.
Равич выпил свой ром. Потом посмотрел в окно.
— Сумеречный час, — сказал он. — Crépuscule [47]. Час теней, когда человек остается один на один со своим жалким «я» или тем, что от него осталось. Час, когда умирают больные.
— Что-то ты уж больно печален, Равич. Случилось что-нибудь?
— Я не печален. Подавлен. Пациент умер прямо на столе. Казалось бы, это уже не должно меня расстраивать. Но тем не менее. Сходи к Джесси. Нужно ее поддержать. Постарайся ее рассмешить. На что тебе сдались эти сладкоежки?
— А тебе?
— Я зашел за Робертом Хиршем. Хотим пойти в бистро поужинать. Как в Париже. Это Георг Камп, который писатель?
Я кивнул:
— Последний оптимист. Отважный и наивный человек.
— Отвага! — хмыкнул Равич. — Я готов заснуть на много лет, лишь бы проснуться и никогда больше не слышать этого слова. Одно из самых испохабленных слов на свете. Прояви-ка вот отвагу и сходи к Джесси. Наври ей с три короба. Развесели ее. Это и будет отвага.
— А врать ей обязательно? — спросил я.
Равич кивнул.
— Давай куда-нибудь сходим, — сказал я Марии. — Куда-нибудь, где будет весело, беззаботно и непритязательно. А то я оброс печалью и смертями, как старое дерево мхом. Премия от Реджинальда Блэка все еще при мне. Давай сходим в «Вуазан» поужинать.
Мария посмотрела на меня.
— Я сегодня ночью уезжаю, — сказала она. — В Беверли-Хиллз. Съемки и показ одежды в Калифорнии.
— Когда?
— В полночь. На несколько дней. У тебя хандра?
Я покачал головой. Она втянула меня в квартиру.
— Зайди в комнату, — сказала она. — Ну что ты стал в дверях? Или ты сразу же хочешь уйти? Как же мало я тебя знаю!
Я прошел за ней в темную комнату, освещенную только окнами небоскребов, как на полотне кубистов. Бледный полумесяц висел в просвете между блеклыми облаками.
— А может быть, все-таки, несмотря ни на что, сходим в «Вуазан»? — спросил я. — Чтобы сменить обстановку?