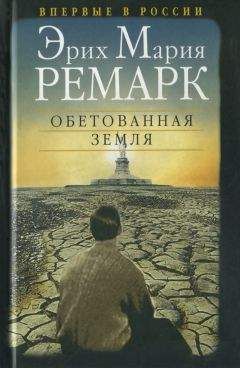Мария внимательно посмотрела на меня.
— Случилось что-нибудь? — спросила она.
— Да нет. Просто внезапно возникло чувство какой-то ужасной беспомощности. Со мной бывает иногда. Все этот бесцветный час теней. Пройдет, когда будет светло.
Мария щелкнула выключателем.
— Да будет свет! — сказала она, и в голосе ее прозвучали вызов и страх одновременно.
Она стояла меж двух чемоданов, на одном из которых лежало несколько шляпок. Второй чемодан был еще раскрыт. При этом сама Мария, если не считать туфель на шпильках, была совершенно голая.
— Я могу быстро собраться, — сказала она. — Но если мы хотим в «Вуазан», мне надо немножко поработать над собой.
— Зачем?
— Что за вопрос! Сразу видно, что ты нечасто имел дело с манекенщицами. — Она уже устраивалась перед зеркалом. — Водка в холодильнике, — деловито сообщила она. — Мойковская.
Я не ответил. Я увидел, что в ту же секунду она почти забыла обо мне. Едва только ее руки взялись за кисточки, словно пальцы хирурга за скальпель, это освещенное резким светом лицо в зеркале разом стало чужим и незнакомым, будто ожившая маска. С величайшим тщанием, будто и впрямь шла деликатнейшая операция, проводились линии, проверялась пудра, наводились тени, и все это сосредоточенно, молча, словно охотница подготавливалась к бою.
Мне часто случалось видеть женщин перед зеркалом, когда они подкрашивались, но все они не любили, когда я за ними наблюдал. Мария, напротив, чувствовала себя совершенно непринужденно — с такой же непринужденностью, не задумываясь об этом, она и расхаживала нагишом по квартире. Тут не только в профессии дело, подумал я, тут скорее еще уверенность в своей красоте, делавшей ее столь неосторожной. К тому же Мария настолько привыкла к частой смене платьев на людях, что нагота, вероятно, стала для нее чем-то вроде неотъемлемой части ее существования.
Я чувствовал, как вид этой молодой женщины перед зеркалом постепенно захватывает меня целиком. Она была полностью поглощена собой, этим тесным мирком в ореоле света, своим лицом, своим «я», которое вдруг перестало быть только ее индивидуальностью, а выказало в себе исконные черты рода, носительницы жизни, но не праматери, а скорее невольной хранительницы чего-то, что выглядывало сейчас из черных зеркал прошлого и властно требовало воплощения. В ее сосредоточенности было что-то отсутствующее и почти враждебное, на мгновение она вернулась к чему-то, что потом сразу же забудется, — к первоистокам, лежащим далеко по ту сторону сознания, в сумерки первоначал.
Мария медленно обернулась, отложив в сторону свои кисточки и помазки. Казалось, она возвращается с интимного свидания с самою собой; наконец она заметила меня и даже узнала.
— Я готова, — сказала она. — Ты тоже?
Я кивнул:
— Я тоже, Мария.
Она рассмеялась и подошла ко мне:
— Еще не раздумал прокутить свои деньги?
— Сейчас меньше, чем когда-либо. Но уже совсем по другой причине.
Я чувствовал ее тепло, нежность ее кожи. От нее веяло ароматом кедра, уютом и дальними странами.
— Сколько же на свете бесполезных вещей, — сказала она. — В тебе их полным-полно. Откуда?
— Сам не знаю.
— Почему бы тебе их не забыть? Как просто жилось бы людям: без этого проклятия памяти.
Я усмехнулся:
— Вообще-то люди забывают, только все время не то, что нужно.
— И сейчас тоже?
— Нет, сейчас нет, Мария.
— Тогда давай лучше останемся. У меня тоже хандра, но более понятная. Мне грустно уезжать. С какой стати нам идти в ресторан?
— Ты права, Мария. Извини.
— В холодильнике у нас татарские бифштексы, черепаховый суп, салат, фрукты. А также пиво и водка. Разве мало?
— Вполне достаточно, Мария.
— На аэродром можешь меня не провожать. Не люблю сцен прощания. Просто уйду, как будто я скоро вернусь. А ты можешь остаться здесь.
— Я тут не останусь. Отправлюсь к себе в гостиницу, как только ты уедешь.
Секунду она помолчала.
— Как знаешь, — сказала она затем. — Мне было бы приятней, если бы ты пожил тут. А то ты такой далекий, когда уходишь.
Я обнял ее. Все вдруг стало легко, просто и правильно.
— Выключи свет, — попросил я.
— А ты есть не хочешь?
Я выключил свет сам.
— Нет, — сказал я и понес ее к кровати.
Когда снова началось время, мы долго лежали друг подле друга и молчали. Мария слабо пошевельнулась в полусне.
— Ты никогда не говорил мне, что любишь меня, — пробормотала она безразличным тоном, словно имела в виду не меня, а кого-то другого.
— Я боготворю тебя, — ответил я не сразу, стараясь не прерывать блаженство волшебного глубокого дыхания. — Я боготворю тебя, Мария.
Она положила голову мне на плечо.
— Это не то, любимый, — прошептала она. — Это совсем другое, любимый.
Я не ответил. Мои глаза следили за стрелками светящегося циферблата круглых часов на ночном столике. Мне легко думалось о многих вещах сразу.
— Тебе надо отправляться, Мария, — сказал я. — Пора!
Вдруг я увидел, что она беззвучно плачет.
— Ненавижу прощания, — сказала она. — Нам всем уже столько раз приходилось прощаться. И всегда раньше срока. Тебе тоже?
— У меня в жизни, пожалуй, кроме прощаний, и не было почти ничего. Но сейчас это не прощание. Ты ведь скоро вернешься.
— Все на свете прощание, — сказала она.
Я проводил ее до угла Второй авеню. Вечерний променад гомосексуалистов был в полном разгаре. Хосе махнул нам, Фифи залаял.
— Вот и такси, — сказала Мария.
Я погрузил ее чемоданы в багажник. Она поцеловала меня и уселась в машину. В огромном автомобиле она выглядела совсем потерянной. Я провожал ее глазами, пока такси не скрылось из виду. «Странно, — подумал я. — Ведь это только на пару дней». Но страх — а вдруг это навсегда, а вдруг мы больше никогда не увидимся? — остался еще с Европы.
Реджинальд Блэк потрясал газетой.
— Он умер! — воскликнул он. — Ускользнул! — Кто?
— Дюран-второй, кто же еще…
Я облегченно перевел дух. Ненавижу траурные известия. Слишком много их было в моей жизни.
— Ах этот, — сказал я. — Ну это можно было предвидеть. Старый человек, рак.
— Предвидеть? Что значит «предвидеть»? Старый человек, с раком и неоплаченным Ренуаром!
— А ведь верно! — ужаснулся я.
— Еще позавчера я звонил ему. Он мне заявил, что, вероятнее всего, картину купит. А теперь вот оно! Как же он нас провел!
— Провел?
— Конечно! Даже дважды. Во-первых, он не заплатил, а во-вторых, картина теперь числится в наследственном имуществе, и государство наложит на нее арест, пока не будут урегулированы все наследственные претензии. Это может тянуться годами. Пока не улажены все дела по наследству, портрет для нас, считайте, потерян.
— За это время он только поднимется в цене, — мрачно пошутил я. Это был аргумент, в котором Блэк, благодетель человечества, вероятно, сам нуждался при каждой сделке.
— Сейчас не время для шуток, господин Зоммер! Надо действовать. И притом быстро! Пойдете со мной. Вы даже представить не можете, на что иногда способны наследники. Стоит кому-то умереть — и перед вами стая пятнистых гиен. Вы мне понадобитесь как свидетель. Я совершенно не исключаю, что наследники заявят, будто картина уже оплачена.
— Скажите, а его уже похоронили?
— Понятия не имею. По-моему, нет. Сообщение было в сегодняшней утренней газете. Но, может, его уже отвезли в похоронное бюро. Здесь это мгновенно — как бандероль по курьерской почте отправить. А с какой стати вас это интересует?
— Если гроб с телом уже установлен дома для торжественного прощания, нам, возможно, стоит приличия ради надеть черные галстуки. У вас не найдется лишнего для меня?
— За неоплаченную картину? Дорогой…
— Всегда лучше соблюсти пиетет и изобразить фальшивое соболезнование, — перебил я его. — Галстук не стоит ничего, но настраивает на миролюбивый лад.
— Ладно, мне все равно, — буркнул Блэк и скрылся в спальне. Вернувшись, он протянул мне черный галстук из узорчатой парчи.
— Шикарная вещь! — похвалил я.
— Еще из Парижа. — Блэк окинул себя критическим взором. — С этой траурной тряпкой на шее я сам себе кажусь ряженой обезьяной. Не подходит она к костюму! — Он недовольно уставился в зеркало. — Ужас какой-то!
— Темный костюм подошел бы больше.
— Вы считаете? Вполне возможно. Чего только не приходится вытворять, чтобы заполучить свою же собственность из лап мертвеца и его наследников!
Реджинальд Блэк снова вышел и вскоре вернулся. На сей раз на нем был скромный костюм в тонкую белую полоску.
— На совершенно черный я все-таки не смог решиться, — загадочно заявил он. — У каждого свое представление о чести. В конце концов, я скорблю не о Дюране-втором, а хочу спасти свою картину.