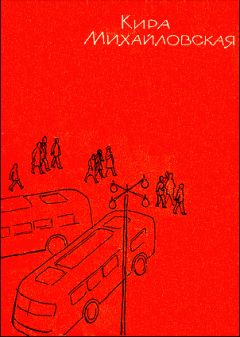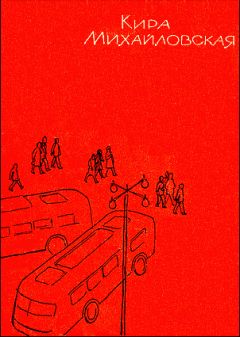Поют туристы песню, как будто вяжут сеть — петелька за петельку, узор за узор. Останавливаются люди, бегущие мимо, но ненадолго, подхватывают чемоданы и бегут дальше — некогда. Стрелка на больших вокзальных часах вздрагивает и ползет вверх. А длинная песня приходит к концу. Я протягиваю руку за своим чемоданом и показываю на часы. Вагон начинает заполняться людьми. Платформа пустеет. Из окон мне машут, кричат что-то, а рядом со мною стоит только Аарне. Он говорит мне о встрече в Хельсинки и о том, что он еще непременно приедет сюда. Но я уже плохо понимаю его. Я подталкиваю его к вагону, и вот он на подножке, улыбается мне, поднимает приветственно руку.
— До свидания, Аарне!..
Толстый Асикайнен застыл на площадке вагона и всех загородил.
К стеклу прижалось лицо Микколайнена. Он смеется и говорит что-то, но что — я не слышу. До свидания, господин Микколайнен! И ты, Лео, до свиданья! Ты не будешь больше смотреть так напряженно, и ты, наверное, сможешь даже помогать своему отцу клеить картонные ящики.
До свидания, Орава. Я не сержусь на вас за то, что вы чуть не опоздали на поезд. Зачем же вы плачете?
Поезд трогается. Плывут мимо меня лица моих туристов, серьезные, смеющиеся и плачущие. Вот мелькнула вытянутая рука Аарне. До свиданья!
Брошенный кем-то, кружится в воздухе платок. Он медленно опускается на сырую платформу. Прохожий наклоняется, поднимает его и протягивает мне. С платка улыбается бабка с веником. Она идет в баню. Я складываю платок, засовываю его в сумку, поднимаю чемодан и иду к вокзалу.
16
Я прихожу в «Интурист» в середине рабочего дня. В комнате переводчиков — всего несколько человек: Коля Смирнов, маленькая вертлявая Зойка и Валя. Остальные обедают.
— Аська! Это ты? — спрашивает Валя серьезно.
— Да. Я уже приехала.
— Книжку привезла?
— Какую книжку?
— Книжку подтверждения заказов.
— Да, привезла.
— А ордер не забыла отобрать у своих туристов?
— Нет, не забыла.
— И паспорт в гостинице не оставила?
— Нет.
— Ну молодец! Тогда здравствуй! — Валя встает из-за стола, подходит ко мне и целует меня в щеку. — Я рада, что ты приехала. Я уже начала скучать без тебя. Пойдем поговорим!
Мы выходим в коридор, и, пока спускаемся по лестнице в широкий холл первого этажа, я говорю Вале:
— А я тоже рада, что снова дома. Я за все время в Москве и не выспалась ни разу. А одну ночь так мне совсем не спалось — всю ночь просидела в номере у туриста.
Валя останавливается:
— Где?
— В номере. У своего туриста.
У Вали испуганное лицо, и я успокаиваю ее:
— Он был тяжело болен. Вызывали неотложку.
— Ну, я понимаю: болен, неотложка — я все это понимаю, но все-таки зачем в номере? Почему обязательно ночью и обязательно в номере у туриста?
— Да пойдем, пойдем! Что ты стоишь? Я тебе сейчас объясню. Человек заболел внезапно, неожиданно. У него было что-то с сердцем. Чуть не умер. Никто с ним объясниться не может — ни врач, ни сестра, ни горничная. Он лежит у себя в номере. Где же мне быть? На улице, что ли? Человек-то заболел у себя в номере. Там и лежит!
Валя с сомнением качает головой, а потом спрашивает:
— И ты всю ночь у него просидела?
— Ну конечно! Всю ночь.
Валя думает, потом говорит:
— Я понимаю, положение действительно безвыходное. Только я советую тебе больше этого не делать.
— Но почему?
— Почему-почему! Пойдут разговоры, сплетни, дойдет до начальства. Да и зачем до начальства — вот Соколова узнает и всыплет тебе.
Я знаю, что Соколова, заведующая бюро обслуживания, самая грозная женщина в «Интуристе», а сейчас, слушая слова Вали, я уже не сомневаюсь: да, Соколова узнает и всыплет! И непонятный страх перед этим именем охватывает меня.
Мы сидим в холле. В это обеденное время здесь обычно много народу, но сейчас зал почти пуст. Только в углу под картиной курят сигары и молчат двое немолодых людей, и около киоска стоят девушки в коротких юбках. Потом девушки уходят, и становится совсем тихо. Слышно, как работает вентиляция, что говорят рядом в бюро обслуживания и как бьют в кабинете управляющего часы. Двое пожилых в углу под картиной по-прежнему молчат, а сладковатый запах сигары наполняет весь холл. Мы разговариваем почти шепотом. Мы знаем, что Соколова терпеть не может, когда кто-нибудь из переводчиков сидит в холле. Она любит порядок. Но во всей гостинице нет другого места, где мы могли бы поговорить, и мы продолжаем сидеть здесь.
— Ты здорово отстала от нас за эти дни, — говорит Валя. — В Эрмитаже мы сидим уже на Веласкесе, метро сдали, а город будем сдавать на днях.
— Да. Мне придется туговато. Но ты дашь мне конспекты?
— Конечно.
— Ну, а что интересного случилось за это время? Кого-нибудь взяли из новеньких?
— Взяли. Какого-то дядьку. Высокого, немолодого, в очках. Худой — ужасно.
— Язык?
— Немецкий. И как будто английский. Довольно занозистый: ни с кем не разговаривает. Да, совсем забыла. У нас будет вечер. Здесь, в гостинице. Устраиваем сами. Что-то вроде складчины. Будет столик в ресторане. Ты пригласишь кого-нибудь?
— Пожалуй, нет.
— Ну а я буду с Вовкой. Никуда не деться — брачные узы!
— Ты как будто недовольна?
— Нет, отчего же?
Мы разговариваем с Валей до тех пор, пока из столовой не появляется Соколова. Не дожидаясь, пока она подойдет к нам, мы встаем и идем к лестнице.
17
И вот я снова дома. Снова сижу за столом и снова вижу рядом круглое и доброе лицо тети Музы. Тетя Муза шьет, и на пальце у нее блестит наперсток. Глядя на полные руки тети Музы, с коротенькими растопыренными пальцами, ни за что не скажешь, что они могут быть такими искусными и что все они могут: оклеить комнату обоями, сделать красивый абажур из бумаги, сшить платье и еще много такого, чего не смогут сделать ничьи другие руки. Тетя Муза может все. Единственное, что она не умеет делать, это рассказывать. Она всегда что-нибудь вспомнит в середине рассказа, отвлечется и забудет, о чем говорила сначала.
Сейчас тетя Муза поглядывает на меня поверх очков. Я рассказываю ей о поездке в Москву.
— Однажды я просто встала в тупик. Представляете, меня спрашивает одна туристка: «У вас легко выйти замуж?» Ну что я ей отвечу, я и сама не знаю, как это у нас, легко или трудно. Я растерялась и молчу, а она говорит: «У нас очень трудно выйти замуж. Мало мужчин. У вас на улицах я встречаю много мужчин. Мне очень нравится ваша страна». Я чуть не рассмеялась. Получается, что ей у нас только из-за мужчин и нравится. Смешно, правда?
— Ничуть не смешно, — серьезно отвечает тетя Муза. — Что смешного, если женщины замуж не могут выйти, а мужчины полегли в войну. Что смешного в одиночестве?
— Но ведь у нас тоже была война и у нас тоже погибли многие!
— У нас страна большая, людей больше. И то, мало ли у нас вдов?
Я замолкаю. Муж тети Музы погиб в блокаду. Он работал на том же заводе, что и она, и умер от голода. Мой разговор с туристкой больше не кажется мне смешным. Вспоминается лицо этой женщины, стареющее, с тщательно нарисованным ртом, ее жилистая шея и маленький золотой крестик на шее. Он качался, когда она кивала головой. Тогда и крестик показался мне смешным, но сейчас я не улыбаюсь.
Тетя Муза молчит. Она, наверно, вспоминает блокаду. Я вспоминаю ту женщину с крестиком и думаю об одиночестве. Силюсь представить себе, что это такое, — и не могу. Я знаю, оно бывает глухим, глубоким, тоскливым. Но как оно может существовать в нашем двадцатом веке в большом городе, полном людей, книг, кино, автобусов, — городе, где все время что-то случается, где люди сталкиваются с людьми в магазине, в метро.
Я понимаю — в блокаду. Тогда мы жили одни во всей квартире: я и тетя Муза. И в квартире рядом никто не жил. И никто не жил в квартире под нами. И целый день можно было тихо пролежать в кровати, забившись под одеяло, и не услышать ни одного звука ни со двора, ни с лестницы. А только сухие щелчки метронома по радио и сирены воздушной тревоги. Когда на всей нашей улице можно было увидеть порой только двух человек: одного — мертвого, а другого — полуживого, который тащит этого мертвого, — вот тогда да, тогда может возникнуть одиночество — и глубокое, и глухое… Я не знаю, возникало ли оно у тети Музы, у меня — нет. Наверное, потому, что я была слишком маленькая и слишком была измучена и голодна. Впрочем, я ничего этого не помню, и даже чувство голода для меня так непонятно, словно никогда я его не испытывала. У меня не осталось почти никаких воспоминаний, и блокада живет во мне не в сознании, — в нервах: они напряжены чуть-чуть туже, чем у моих подруг.
Хлопает дверь. Я оборачиваюсь: тетя Муза ушла из комнаты. Слышу, шаркают ее домашние туфли по коридору, и все стихает. И тут же звонок. Я вздрагиваю — до того неожиданно звучит он.