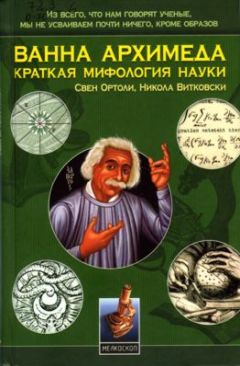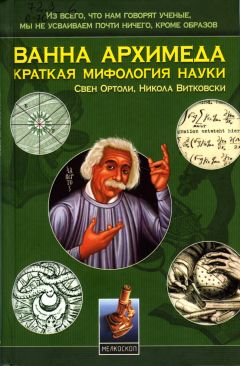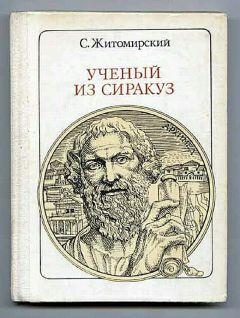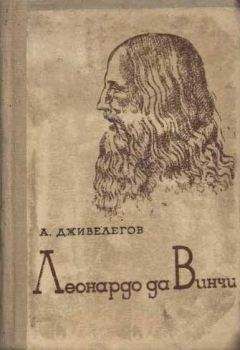С мучительным волнением, граничащим с агонией, я собрал необходимые инструменты, способные создать искру, которая оживила бы бесчувственный предмет, лежавший у моих ног. Был час пополуночи; дождь уныло стучал в оконное стекло: свеча почти догорела; и вот при ее неверном свете я увидел, как открылись тусклые желтью глаза; существо начало дышать и судорожно подергиваться[17].
Молодой Виктор Франкенштейн потрудился на славу: части тела подобраны по размеру, волосы черные и блестящие, зубы как жемчужины, но «тем страшнее был контраст этих правильных черт со слезящимися бесцветными глазами, почти неотличимыми по цвету от глазниц, с сухой кожей и узкой прорезью черного рта». Охваченный невыразимым ужасом, Виктор оставляет свое создание на произвол судьбы и на протяжении долгих месяцев ищет забвения в изучении восточной поэзии.
Осиротевший безымянный монстр тоже находит себе познавательное занятие: поселившись в убогом сарае, он через щели в стене изучает жизнь несчастных изгнанников, обитающих в соседней бедной хижине, становится свидетелем их возвышенных чувств и простого человеческого счастья. В конце концов он устраивает им грандиозный пожар (вовсе не для того, чтобы изжарить их и съесть: он питался исключительно желудями)[18] и отправляется в Швейцарию. Там он вновь встречает Виктора, упрямо отказывающегося повторить опыт и сделать ему невесту, начинает методично мстить за это своему несчастному создателю и, пока тот мечется по Европе, одного за другим уничтожает всех его близких. Истерзанный и отчаявшийся Виктор гибнет во время последней погони на собачьей упряжке во льдах Арктики. И тогда монстр, к которому читатель успевает проникнуться большой симпатией, решает уничтожить себя в огне точно на Северном полюсе — при этом не указывается, где он там находит дрова. Эта замечательная история имеет все признаки пророчества: достаточно заменить в ней мстительную тварь долгоживущими радиоактивными отходами или генетически модифицированными бактериями, экологическое действие которых неизвестно, — и вот вам сегодняшние, не менее грозные чудища.
Однако ни сама Мэри, ни ее муж, ни Байрон не могли представить себе подобных ужасов. Если «Франкенштейн» — пророчество, то совсем иного рода: чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить о судьбе его «создателей», об истории, перипетии которой несравнимо богаче и удивительнее представленных в романе. Убежденный идеалист, Перси Шелли был молодым бунтарем, и его не смогли обуздать ни в Итоне, ни в Оксфорде. За невоздержанность и атеизм его исключили из университета, от него отрекся, лишив его титула, отец; в семнадцать лет он похитил юную Гарриет Вестбрук, на которой женился в Шотландии и которая родила ему ребенка в Ирландии.
Быстро устав от нее, он влюбился (взаимно) в прекрасную Мэри Годвин «с ореховыми глазами», пятнадцатилетнюю дочь одного из своих интеллектуальных наставников — революционного теоретика Уильяма Годвина и знаменитой феминистки Мэри Уоллстонкрафт. Совершив новое похищение в четыре часа пополуночи, он пустился в долгое тяжелое путешествие по Франции (раздираемой войной), Швейцарии, Германии и Голландии с Мэри и ее сестрой Клэр. Мэри потеряла своего первого ребенка, Клэр влюбилась в великого Байрона, обвиняемого в кровосмесительстве, и все четверо отправились искать убежища в Швейцарию. Тем временем жертвами разрушительного обаяния Шелли пали еще одна сестра Мэри, покончившая с собой, и Гарриет, найденная утонувшей. Между тем дьявольское трио продолжало свой поиск утопии со все большим неистовством — от Венеции, где умерла дочь Клэр и Байрона, к Риму, где погиб второй ребенок Мэри, а потом назад в Тоскану, где тело Шелли, выброшенное на берег во время одной из тех непредсказуемых бурь, которыми славится Средиземноморье, было сожжено в присутствии Байрона и Мэри. Эта церемония потрясла не только ее непосредственных участников, но и тех, кому довелось читать о ней в «Беседах с лордом Байроном», написанных очевидцем Томасом Медвином. В авторском экземпляре, хранящемся в Италии, напротив пассажа, описывающего потрясение друзей, когда они следили за полетом кулика, который — словно феникс греческих преданий, кружащийся над телами павших, — описывал круги над костром, какой-то итальянский читатель на полях оставил помету: «Era il demonio!»[19]
Самоубийства, мертвые дети, побеги, ритуальные сожжения… Мэри предвидела все это в своем удивительном романе, но осуждает она не науку, а социальное равнодушие, подавившее в конце концов футуристическое микросообщество, создать которое она пыталась вместе с Шелли и Байроном. В самом деле, необычайная любовь Мэри и Перси Шелли включала в себя многие поступки, которые непременно осуждались моралью, равно как и «строгий адюльтер» Байрона, последовательно практиковавшийся им в отношениях с итальянскими графинями. Во всяком случае, биографическая интерпретация привлекательна своей простотой: обаятельный и гениальный Виктор Франкенштейн — не кто иной, как сам божественный поэт Шелли; монстр — это дьявольский дуэт, образованный им с Байроном («Когда Байрон говорит, а Шелли не отвечает, — писала Мэри, — это похоже на гром без дождя»), единственный порок которого — желание ввести в социальную практику незрелые революционные теории. Мэри же написала немного романизированную автобиографию под названием «Франкенштейн», правдиво повествующую о чудовищной драме, которую только она была в состоянии предчувствовать и запечатлеть. Вернувшись в Женеву в 1840 году, она отметила в своем дневнике: «С тех пор вся моя жизнь превратилась в ирреальную фантасмагорию. Реальностью были тени, собиравшиеся вокруг этой декорации…» Странная алхимия, превратившая имя «Франкенштейн» в обозначение монстра, а не его создателя, также легко объясняется: эти двое представляют собой одну и ту же личность, что так хорошо понял полвека спустя Стивенсон в своем «Докторе Джекиле и мистере Хайде». Что же до опасного поиска, который привел к гибели Байрона и Шелли, то у него нет сегодня — когда никто почти уже не ценит достоинства поэзии и не доверяет социальным утопиям — другого воплощения, кроме науки, неумолимо движущейся от фантастических успехов к убийственной катастрофе, к полному самоуничтожению.
В относительной дремоте XIX века, благословенной эпохи триумфального сциентизма, Франкенштейн будто случайно покинул свою лабораторию, чтобы выбрать момент между двумя мировыми войнами для вторжения в кинозалы, в то самое время, когда подлинные монстры, порожденные научным прогрессом, только начинали показывать свое истинное лицо… И если химическое оружие стало результатом исследования, имевшего самые человеколюбивые цели, а атомная бомба появилась как продукт бесстрастного изучения строения вещества, то за уродливой маской монстра можно увидеть прелестное лицо юной девушки с ореховыми глазами. Эта навязчивая двойственность красавицы и чудовища, юной девы и оживленного трупа не перестает тревожить наши самые потаенные струны.
Миф ненасытен, его аппетиты разнообразны. Не удовлетворенный проглоченными ваннами, яблоками и даже математическими формулами. он иногда начинает питаться пустотой, отсутствием или утратой. Знаменитое звено, все так же отсутствующее сегодня, как и в 1860 году, неизменно продолжает будить страсти.
Дарвин долго — более двадцати лет — колебался, прежде чем решился на публикацию своего труда «Происхождение видов», положившего начало эволюционной теории. Его можно понять: не много было научных теорий, получивших столь значительный резонанс. И если Лаплас не нуждался в гипотезе Бога при создании системы мира, то Дарвин поступил еще лучше (или хуже?), показав бесполезность Создателя. По словам доктора Фрейда, также прославившегося на ниве скандальных теорий, Коперник лишил человека привилегии находиться в центре Вселенной, а Дарвин — привилегии быть объектом специального акта творения. Еще более редки столь тонкие научные теории. Прежде всего речь идет не об одной теории, а о целом комплексе самосогласованных утверждений различной природы: от естественного отбора до градуализма (последовательного постепенного изменения данной популяции) и вывода о наличии единого для всех существующих видов общего предка. В этом комплексе — непомерно объемном — некоторые идеи недвусмысленно вступали в противоречие с общепринятой идеологией. Кроме подчеркнутого отсутствия в «Происхождении видов» Божественного творения, внимание публики не мог не привлечь предполагаемый постепенный переход от орангутанга к человеку (белому!) как «господствующей расе». Эволюционная идея, конечно, уже носилась в воздухе, но подобное смешение жанров и видов казалось абсолютно неприемлемым.