Единственное подлинное чувство Рокероля — безответная любовь к Линде. И он уничтожает ее, надругавшись над любимой. Затем отвращение к собственной пустоте доводит его до самоубийства. Но и самоубийство он обращает в искусство. Его жизнь, его преступления, его смерть становятся содержанием трагедии, которую он сам сочиняет, ставит на сцене и играет. Он последовательно осуществляет эстетизацию своей жизни, публично стреляясь на сцене и доводя до абсурдного конца шиллеровскую идею эстетического воспитания в духе романтиков — к восторгу советника от искусства Фрайшдёрфера, которого не волнует покойник, но театральный эффект восхищает и подсказывает ему новые теории.
Однако в жертву непреложной классической гармонии Жан-Поль приносит и Шоппе, этого вольнодумца, этого злого насмешника, отметив его клеймом разрушения, вследствие чего он, как существо одностороннее, подчиняясь идее романа, находит свой ад в безумии. Но этим самым автор чинит над собой непереносимое насилие: едва Шоппе умирает, как появляется его точное подобие Зибенкез-Лейбгебер, готовый продолжать сатирическую службу Шоппе у будущего правителя княжеств Гогенфлисс и Гааргаар. А в «Комическом приложении» автор не только дает волю сатирическим насмешкам, от которых отказывался с трудом, он воскрешает Шоппе под именем Гианоццо, свободного не только от всяких человеческих и социальных связей, но и от земли, ибо с помощью новейшего достижения техники — изобретенного в 1873 году воздушного шара — поднимается над нею и осуществляет первый из трех описанных в «Квинте Фиксляйне» путей «стать счастливее (не счастливым)», а именно: «так далеко выйти за пределы облаков жизни, чтобы весь внешний мир с его волчьими логовами, гробницами и громоотводами увидеть далеко внизу под своими ногами в виде крошечного игрушечного садика».
Это полет гения, довольствующегося самим собой, — и наслаждение, причудливость и сила, с какой он изображен, сводит на нет всю мораль предыдущего романа. Односторонность снова торжествует победу. Правда, воздухоплаватель во время грозы гибнет. Но когда его труп падает на землю, друг Лейбгебер (теперь под именем Грауля) уже готов вступить в права его наследства. Мечта о свободе бессмертна.
«Знаете ли Вы, мой друг, — то, что Вы от меня сейчас требуете, очень опасно? Я должен оценить „Титана“ Жан-Поля? От одной лишь мысли, что его могут побранить, бледнеет сотня красивых энтузиасток, которые при чтении Рихтера чуть ли не падают в обморок от охватывающих их смутных чувств; и столько же слабоумных мужчин — которые были бы совершеннейшими ничтожествами, не будь они всегда под хмельком, — свирепо, волосы дыбом, вскакивают и грозят войной, если кто-то осмеливается судить то, чем они могут только восхищаться».
После неслыханного успеха «Геспера» выраженные здесь опасения критика Гарлиба Меркеля понятны, но теперь уже беспочвенны: «Титан» разочаровал не только Меркеля и Августа Вильгельма Шлегеля — его самых острых критиков, — но и вообще всех.
Начиная с «Зибенкеза», Жан-Поль то и дело с барабанным боем рекламировал свой «кардинальный роман», заставляя затем читательский мир долго его дожидаться. Интерес к первому тому был соответственно велик, но велико было и разочарование, усиленное вторым томом, в котором непонятное действие не только не двигалось, но еще больше запутывалось. Последние два тома, хотя и более удачные, были едва замечены. Тираж в три тысячи экземпляров расходился плохо, о втором, прижизненном, издании нечего было и думать. Когда Жан-Поль умер, экземпляры третьего и четвертого томов все еще лежали у издателя. Позднее предпринимались попытки сделать эту махину доступнее путем сокращений: трижды в девятнадцатом веке, затем в 1913 году Герман Гессе для издательства «Инзель» с неспокойной совестью вычеркнул из романа целую четверть, но успеха этим не достиг.
С точки зрения успеха огромные усилия Жан-Поля не оправдались. Но они оказались полезными для его творчества. Это проявилось в следующем произведении — в «Озорных летах», где он вернулся в бюргерскую среду, но теперь уже более зрелым. Однако и этот роман остается фрагментом: завершенность, совершенство, гармония — все это не в духе Жан-Поля. В нем самом постоянно существует внутренний разлад; он не в силах упорядочить хаос мира, который видит. И это затрудняет чтение его книг, но это же и привлекает к нему каждого, кто в состоянии следовать за ним по его запутанным тропам.
Ему так хочется снова обратиться к юмористическому роману бюргерского толка, что, еще не окончив «Титана», он начинает работать над ним. Но он принуждает себя к дисциплине, сперва доводит до конца гигантское творение, хотя уже понял, в чем его порок: выбор высшего сословия, сословия так называемых благородных, написал он из Берлина Отто, был ошибкой, и оценил это как огорчительное отклонение от своей «зибенкезовской манеры».
Он никогда не делал ошибочного предположения, что мог бы хорошо чувствовать себя среди так называемых благородных. Как только у него накопились необходимые для «Титана» впечатления и он нашел такую жену, какую хотел, он сразу же поспешил отправиться в обратный путь. Когда берлинцы 30 мая 1801 года прочитали в «Фоссише» и в «Гауде унд Шпенерше цайтунг» нижеследующее объявление, он, чтобы избежать «церемониала визитов», любимого старыми тетушками, уже покинул город.
«С благодарностью за прежнюю и надеждой на будущую любовь мы оповещаем наших друзей о своем бракосочетании и отъезде в Майнинген.
Жан-Поль Рихтер, легационсрат Леопольдина Каролина Рихтер, урожд. Майер»В Вёрлице и Дессау они делают остановки, в Веймаре он ждет, что скажут Виланд и Гердер о его избраннице (они от нее в восторге), после чего Жан-Поль безболезненно расстается с большим светом.
20 июня «блаженствующий» супруг написал первое письмо Отто из Майнингена: «Брак по-настоящему включил меня в домашнюю прочную, тихую, полную жизнь. Работать и читать — вот что надо теперь делать. Влюбленности можно оставить».
Это и значит блаженствовать по его вкусу: избавленный от симультанных влюбленностей и хорошо ухоженный, он может работать, сперва еще над «Титаном», потом над «Озорными летами». Каролина живет полностью ради него, ради Жан-Поля, обожаемого поэта. Он это понимает и не устает превозносить ее поведение. Ее самопожертвование заходит так далеко, что незадолго до первых родов, «когда уже начались схватки», она принесла ему в кабинет сливовый пирог на завтрак. «Она нисколько не отягощена своим „я“, — восторгается он как величайшим ее достоинством. — Поэзия получает с этого проценты». Он нашел в Каролине именно то, о чем мечтал, и она пока счастлива. Дочь состоятельных родителей быстро свыкается с примитивными условиями жизни. Они живут на Нижней Марктгассе, сперва в темноватом доме на заднем дворе, потом несколько дальше, в доме получше, с окнами на улицу, где пасутся гуси. Обстановка, согласно его принципам, самая простая. Даже зеркало и шторы кажутся супругу излишней роскошью. (Но жене он разрешает повесить их в своей комнате.) «До конца жизни я по-прежнему буду врагом мебели, за исключением удобных вещей, наподобие моей безвкусной кушетки; спустя месяц самая красивая мебель перестает радовать глаз… Я знаю только одну исполненную вкуса, вечно освежающую, хорошо отделанную мебель — так называемую природу или землю».
Во время работы он сидит на обитой черным кушетке. Кроме нее, в комнате стоят сосновый стол «для писания и пачкотни», жесткие стулья и испытанный стеллаж, с которого он может, не поднимаясь, доставать выписки, справочники, копии писем. Он сидит здесь изо дня в день с половины седьмого утра до пяти вечера. Сюда ему приносят утренний кофе, затем необходимое для работы пиво. Лишь обедать он приходит в комнату жены и после обеда читает «Рейхсанцайгер». Вечером навещают или принимают знакомых: геолога Гейма (брата знаменитого берлинского врача) — он живет в доме напротив, — графиню Шлабрендорф, которая, заранее съездив в Майнинген, сняла для супругов квартиру, а теперь опять собирается замуж, или Георга I, герцога земли Саксония-Майнинген, человека «знающего и доброго», но «далекого от поэзии и философии», с которым он, как постоянно заверяет в письмах к Отто, обращается как с ровней. Приглашения во дворец он часто отклоняет; когда же принимает их, то приходит и уходит, когда хочет, а узнав от герцога, что тот собирается построить для него дом, он с испугом отказывается: он не собирается оставаться в Майнингене вечно. Ему не хватает бесед с друзьями. Да и пиво здесь неважное.
Вот уже восемь лет Жан-Поль дружит с Эмануэлем Осмундом, байройтским евреем, который выбился из разносчиков в коммерсанты. Прусские офицеры так истязали его, что он навсегда оглох. Но это не сказалось на его доброте и человеколюбии. Эмануэль его «единоверец в большей мере, чем дозволено имперскими законами» (не признающими равноправия евреев), написал Жан-Поль Генриетте Герц. Во время поездок в Байройт Жан-Поль обычно останавливается у Эмануэля. В годы странствий переписка между ними никогда не прерывалась. Теперь, в Майнингене, и позднее, в Кобурге, Эмануэль для него особенно важен: он поставляет Жан-Полю пиво. За эти годы Жан-Поль написал ему более шестидесяти писем, и лишь в нескольких из них нет упоминаний о «бальзаме для желудка», «осенней отраде», «пиве для души», «напитке забвения», «предпоследнем елее», «святой воде» (которая однажды в Кобурге приводит даже к конфликту с законом, потому что, изрядно нагрузившись, он помочился прямо на улице, за что ему пришлось заплатить рейхсталер «мочевого налога»).
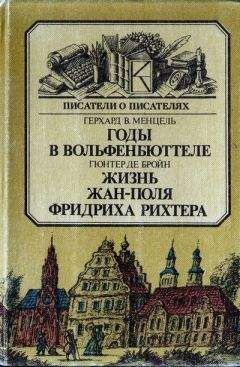
![Константин Аксаков - Вальтер Эйзенберг [Жизнь в мечте]](https://cdn.my-library.info/books/158291/158291.jpg)



