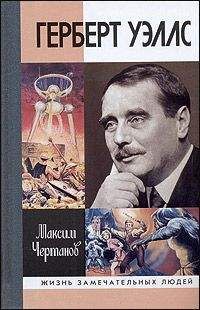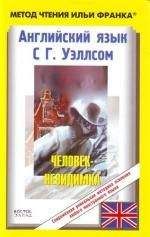После минутного молчания сидевший рядом со мной Виктор Шкловский <…> сорвался со стула и закричал в лицо бесстрастного туриста:
„— Скажите там, в вашей Англии, скажите вашим англичанам, что мы их презираем, что мы их ненавидим! Мы ненавидим вас ненавистью затравленных зверей за вашу бесчеловечную блокаду, мы ненавидим вас за нашу кровь, которой мы истекаем, за муки, за ужас и за голод, которые нас уничтожают, за все то, что с высоты вашего благополучия вы спокойно называли сегодня „курьезным историческим опытом“! <…>
— Слушайте, вы! равнодушный и краснорожий! — кричал Шкловский, размахивая ложкой. — Будьте уверены, английская знаменитость, какой вы являетесь, что запах нашей крови прорвется однажды сквозь вашу блокаду и положит конец вашему идиллическому, трам-трам-трам, и вашему непоколебимому спокойствию!“
Герберт Уэллс хотел вежливо ответить на это выступление, но перепутал имена говоривших, которые в порыве негодования кинулись друг на друга с громогласными объяснениями…»
Шкловскому эпизод запомнился несколько иначе, особенно в том, что касается его собственной речи: «Выступил Амфитеатров, который говорил о том, что на нас одето — это хороший костюм, а под этим костюмом обрывки грязного белья… <…> Горький говорил: „Знаете, нехорошо так жаловаться“. Я выступил…<…> „Вы нам устроили блокаду. У нас закрыт порт, вот недавно к нам пришел корабль, который привез немножко еды и духи. Мы эти духи меняли в окрестностях, хорошие французские духи. И вот отношения испорчены навсегда. Ну, словом, это не забудем“. Уэллс ответил: „Я не отвечаю за это, политика ужасная…“» Слонимский: «Тут он [Амфитеатров] взъярился и, вообразив себя, очевидно, перед многотысячной аудиторией, завопил: „Но если все здесь скинут с себя верхние одежды, то вы, господин Уэллс, увидите грязное, давно не мытое, клочьями висящее белье!“ Тут Алексей Максимович улыбнулся.<…> Это уже был анекдот. Стараясь разоблачить перед иностранным гостем „ужасы революции“, противники самым комическим образом разоблачали самих себя». А вот воспоминания Оцупа о выступлении Амфитеатрова: «Речь эта, взволнованная и справедливая, вызывала все же ощущение неловкости: равнодушному, спокойному, хорошо и чисто одетому англичанину стоило ли рассказывать об этих слишком интимных несчастьях. Гумилева особенно покоробило заявление о неделями не мытом белье писателей. Он повернулся к говорящему и произнес довольно громко: „Parlez pour vous!“».
Все сходятся на том, что Амфитеатров на Уэллса злобно кричал. Перевод, вероятно, кое-что смягчил, но интонация не могла от Эйч Джи ускользнуть. Из его собственного комментария следует, что он не обиделся: «…г. Амфитеатров обратился ко мне с длинной желчной речью. Он разделял общепринятое заблуждение, что я слеп и туп и что мне втирают очки. Амфитеатров предложил всем присутствующим снять свои благообразные пиджаки, чтобы я воочию увидел под ними жалкие лохмотья. Это была тягостная речь и — что касается меня — совершенно излишняя, и я упоминаю о ней здесь для того, чтобы подчеркнуть, до чего дошла всеобщая нищета». Вообще-то Эйч Джи физически не переносил, когда на него орали, мгновенно ощетинивался и слов кричащего уже не воспринимал. Вероятно, если бы Амфитеатров высказался в спокойном тоне, Уэллс отнесся бы к его речам иначе. Впрочем, это ничего бы не изменило. Из присутствовавших на обеде лишь единицы умрут на родине и притом в своей постели.
Что говорил и как вел себя сам Уэллс? Николай Чуковский со слов отца пишет, что он слушал речи «с растерянным, страдающим видом человека, который хочет поскорей уйти и не знает, как это сделать». Георгию Иванову в нем увиделись «величие, важность, небрежность». Но в большинстве описаний ссылаются на Анненкова: «В ответ наш гость, с английской сигарой в руке и улыбкой на губах, выразил удовольствие, полученное им — иностранным путешественником — от возможности лично понаблюдать „курьезный исторический опыт, который развертывается в стране, вспаханной и воспламененной социальной революцией“». С английской сигарой, улыбается, «курьезный» опыт, «удовольствие» — что за чудовище! Но все же давайте разбираться.
Человека чествуют на банкете — он должен не улыбаться, а нахмуриться и сказать: «Я недоволен тем, что меня сюда позвали, и за ваши дурацкие приветствия вам ничуточки не признателен»? А сигара в руке? Уэллс был человек более-менее светский, привыкший к обществу: не мог он произносить речь, куря сигару, если только в это же время не курили и остальные (а они наверняка курили — Горький вообще не расставался с папиросой). И наконец, самое ужасное слово — «курьезный». Английское curious можно перевести и так. Но у этого слова много других значений. Прежде всего — «познавательный». Трудно сказать, ошиблись ли переводчики или сам Анненков, а только Уэллс, не будучи мертвецки пьян, не мог назвать русскую революцию «курьезной». Он называл «курьезными» наши порядки, а не революцию, да и то лишь в частных разговорах с соотечественниками. Ничего «курьезного» он в России не увидел, кроме одного: «Я хочу сказать лишь несколько слов о доме отдыха для рабочих на Каменном острове. Это начинание показалось мне одновременно и превосходным и довольно курьезным. Рабочих посылают сюда на 2–3 недели отдохнуть в культурных условиях. <…> И рабочий должен вести себя в соответствии с этой изящной обстановкой; это один из методов его перевоспитания. Мне рассказывали, что, если отдыхающий забудется и, откашлявшись, по доброй старой простонародной привычке сплюнет на пол, служитель обводит это место мелом и предлагает ему вытереть оскверненный паркет».
С той же неприязнью, с какой наши (и советские, и эмигранты) описывают выбритые щеки и приличный пиджак Уэллса, они отмечают то, что он написал о «гибнущем», по его же выражению, Петрограде: «Спичек здесь больше, чем было в Англии в 1917 году, и надо сказать, что советская спичка — весьма недурного качества. Но такие вещи, как воротнички, галстуки, шнурки для ботинок, простыни и одеяла, ложки и вилки, всяческую галантерею и обыкновенную посуду достать невозможно», «При простуде и головной боли принять нечего; нельзя и думать о том, чтобы купить обыкновенную грелку». А еще он купил тарелку за 800 рублей…[79] Мы гибнем, а эта сытая сволочь тарелки покупает и жалуется на всякую чепуху: ах, на витринах краска облупилась, ах, трамвай ходит только до шести! «Мне, которому слишком не новы многие открытия Уэллса насчет ужасов в России, — писал Бунин, — было все-таки больно и страшно читать его; мне было стыдно за наивности этого туриста, совершившего прогулку к „хижинам кафров“, в гости к одному из людоедских царьков (лично, впрочем, не людоеду, „он не коммунист, как и я“) — стыдно за это неподражаемое: „бедные дикари, у них нет даже бутылки горячей воды для постели!“ — стыдно за бессердечную элегичность его тона по отношению к великим страдальцам, к узникам той людоедской темницы с „ванной и парикмахером“, куда он, мудрый и всезнающий Уэллс, вошел, „как неожиданный луч света“, куда „так легко“, так непонятно легко для этих узников прогулялся он, „свободный, независимый“ гражданин мира, не идеального, конечно, но ведь все-таки человеческого, а не скотского, не звериного, не большевистского…»
Да, текст Уэллса нам режет ухо (или сердце), но он писался не для нас. Он был предназначен для людей, которые не поймут, что творится с Петроградом, если не объяснить на доступных им примерах. Уэллс написал вначале общие слова «подлинное положение в России настолько тяжело и ужасно, что не поддается никакой маскировке», употребил выражения «колоссальный непоправимый крах», «катастрофа», «невероятные лишения»; но как донести смысл этих выражений до лондонцев? Вообразите себе, у них даже магазины не работают! Это последняя степень падения!.. Обратим внимание: в «России во мгле» Уэллс и своим пророчит разруху, если не реорганизуют общество на социалистический (но не большевистский) лад, и для описания грядущей катастрофы использует тот же довод: «Магазины Риджент-стрит постигнет судьба магазинов Невского проспекта»… Примечательно, что то же самое, что возмутило Бунина, не понравилось и советским. Александр Беляев: «Иностранец не слыхал уличных разговоров, в которых можно было услышать радость нового пролетарского города. Он улавливал ухом только слова „нэп“, „пайки“, так уж было устроено его ухо». Глухо к «музыке революции», как скажет Троцкий, и восприимчиво только к ее плоти.
Хорошо еще, что Бунин, когда писал свою статью «Несколько слов английскому писателю», не знал некоторых замечаний Шкловского — тот вспоминал один из своих разговоров с Уэллсом: «Уэллс тогда сидел, а сын занимался своими делами, и он мне говорил. Он мне говорил, что в этой стране надо спекулировать. <…> Спекулировать, потому что здесь, говорит, такие вещи продаются, нефрит выбрасывается… старый английский фарфор, китайский фарфор, английский, воруется». Трудно судить, не перепутал ли пожилой Шкловский чего-нибудь. В «России во мгле» Уэллс писал о спекулянтах: их расстреливают (он полагал, что только их), и это правильно, ибо иначе невозможно бороться с голодом. Маловероятно, что он призывал кого-то заняться спекуляцией.