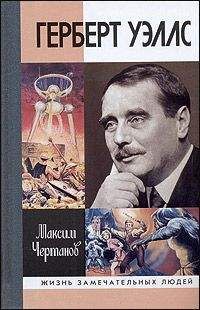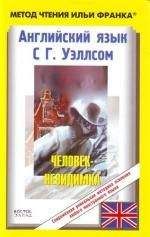Культурная программа включает посещение театров — с этим все было как прежде. «Мы слышали величайшего певца и актера Шаляпина в „Севильском цирюльнике“ и „Хованщине“; музыканты великолепного оркестра были одеты весьма пестро, но дирижер по-прежнему появлялся во фраке и белом галстуке. Мы были на „Садко“, видели Монахова в „Царевиче Алексее“ и в роли Яго в „Отелло“ (жена Горького, г-жа Андреева, играла Дездемону)». С Шаляпиным Уэллс познакомился и был потом у него в гостях: «Революция так мало коснулась г-жи Шаляпиной, что она спрашивала нас, что сейчас носят в Лондоне. Из-за блокады последний дошедший до нее модный журнал был трехлетней давности». (Шаляпины отдадут визит, когда приедут в «Истон-Глиб» на уик-энд.) Встретился с композитором Глазуновым, с которым познакомился в Лондоне: «Он вспоминал Лондон и Оксфорд; я видел, что он охвачен нестерпимым желанием снова очутиться в большом, полном жизни городе, с его изобилием, с его оживленной толпой, в городе, где он нашел бы вдохновляющую аудиторию в теплых, ярко освещенных концертных залах. Мой приезд был для него как бы живым доказательством того, что все это еще существует. Он повернулся спиной к окну, за которым виднелись пустынные в сумерках воды холодной свинцово-серой Невы и неясные очертания Петропавловской крепости. „В Англии не будет революции, нет? У меня было много друзей в Англии, много хороших друзей…“ Мне тяжело было покидать его, и ему очень тяжело расставаться со мной…» Джип в это время побывал в Обуховской больнице и рассказывал о ее бедственном положении. Ничего «курьезного» Уэллс во всем этом не находил. Всякий, кто даст себе труд прочесть «Россию во мгле», увидит, что ему было тягостно и тоскливо.
Ходили с Марией Бенкендорф в Эрмитаж, гуляли, ездили на Васильевский остров. По вечерам сидели за столом с гостями, потом Горький чаще всего уводил Эйч Джи к себе в кабинет и там они до глубокой ночи разговаривали при посредничестве переводчицы, обсуждая совместные прожекты, Горькому очень понравилась «Схема истории», он намеревался перевести ее на русский (это не было сделано). Правомерно называть Горького и Уэллса друзьями — или это натяжка? Они виделись три раза. После первой встречи в Штатах переписывались регулярно, хотя не очень часто. Но их идейная близость была велика: дабы не углубляться в литературоведение, изложим основные сходства, опуская аргументацию. Итак, общее:
1. И Уэллсу, и Горькому активно не нравился человек нашего вида. (Павел Басинский свою книгу о Горьком заключил придумкой, что Горький мог быть инопланетянином, засланным в наш мир; то же можно сказать об Уэллсе.)
2. Оба мечтали о пришествии ему на смену другого, качественно нового человека.
3. Были убеждены, что такой человек должен формироваться путем просвещения, воспитания и образования, которое желательно начинать с детства.
4. Очень не любили крестьянство, деревню и так называемый «Восток».
5. Единственной стоящей социальной группой считали интеллигенцию.
6. Не верили в массы, а только в передовые группы просвещенных людей.
7. Были привержены энциклопедизму, пытались написать (или организовать, чтобы другие написали) «всё про всё».
8. Занимались богостроительством (Горький — больше, Уэллс — меньше); у обоих Богом — если предельно упростить — назывались симпатичные им человеческие черты: что-то вроде мужества у Уэллса, что-то вроде совести у Горького.
Эрудированный читатель, без сомнения, найдет чем продолжить этот ряд. Сходства были не только идеологические, но и человеческие: оба оказывали очень много практической помощи другим людям (и при этом обоих называли злыми — зачастую называли люди, которые сами никому не помогали, аргументируя это тем, что лучше с Богом в душе напакостить своему ближнему, чем без Бога в душе ему помочь); оба были резки в высказываниях, часто ссорились и мирились с окружающими; оба питали чрезвычайную, почти болезненную слабость к женскому полу; оба любили веселье, суету, гостей и «дым коромыслом».
Различия же не особенно значительны. Уэллс ненавидел Маркса, Горький был к нему безразличен; Уэллс терпеть не мог пролетариата, Горький его не то чтобы любил, но относился скорее с симпатией. Имелись различия и в характерах: Горький, к примеру, стоически переносил болезни, Уэллс, болея, капризничал как ребенок; Горький был умелым организатором, Уэллс — никудышным. Ряд опять же можно продолжать, но вряд ли найдется что-то принципиальное. У Уэллса все смягчалось его «английскостью», у Горького обострялось его «русскостью». Они были похожи как близнецы, которых после рождения поместили в разную среду. Что же касается творческого метода и стиля, то между яркой, словно ковер, прозой Горького и сухой и стерильной, как больничная марля, прозой Уэллса сходства никакого нет, кроме одного: тут и там герои очень много разглагольствуют.
* * *
Совсем тоскливо Уэллсу стало во время посещения Дома ученых, организацией которого гордился его русский друг. За несколько дней до приезда Уэллса Луначарский писал Рыкову: «Пусть в этой области, совершенно невинной политически области подкармливания ученых, использования их силы в аполитичной культурной области Горький заработает, до некоторой степени, карт-бланш». Уэллс не заметил, чтобы ученых хорошо «подкармливали»: «Многие из них отчаялись уже получить какие-либо вести из зарубежного мира. В течение трех лет, очень мрачных и долгих, они жили в мире, который, казалось, неуклонно опускался с одной ступени бедствий на другую, все ниже и ниже, в непроглядную тьму. Не знаю, может быть, им довелось встретиться с той или иной политической делегацией, посетившей Россию, но совершенно очевидно, что они никак не ожидали, что им когда-либо придется снова увидеть свободного и независимого человека, который, казалось, без затруднений, сам по себе, прибыл из Лондона и который мог не только приехать, но и вернуться снова в потерянный для них мир Запада. Это произвело такое же впечатление, как если б в тюремную камеру вдруг зашел с визитом нежданный посетитель».
Ученые тем не менее продолжали заниматься наукой, Уэллса это восхищало. Бунин с возмущением писал, что в бедствиях ученых повинна не английская блокада, как утверждал Уэллс, а Ленин. Ну хорошо, во всем виноват Ленин, а наши помещики абсолютно ни в чем не виновны, но Уэллсу-то что было теперь делать? Он видел, что ученые голодают и что у них нет книг — это был факт, и если бы блокаду не сняли, от этого стало бы веселее Бунину, но вряд ли Павлову… Предположим фантастическое: европейские страны доводят интервенцию до победного конца и сажают на трон Колчака или Врангеля: не факт, что все ученые бы до этого дожили, что большевики, отступая, их не расстреляли бы (Ленин намеревался использовать интеллигенцию в качестве «живого щита» при обороне Петрограда от Юденича), что белые их не расстреляли бы за сотрудничество с большевиками… «Если этой зимой Петроград погибнет от голода, погибнут и члены Дома ученых. — написал Уэллс, — если только нам не удастся помочь им какими-нибудь чрезвычайными мерами…» Он упоминает о медике Иване Ивановиче Манухине и его новом методе лечения туберкулеза (радиологическом; он лечил по этому методу Горького и Мережковского). Уэллс увез с собой список работ Манухина и опубликовал его в Англии; быть может, это хоть чуточку помогло Манухину, когда он в 1930-х уехал в эмиграцию… «Увы, опять и опять немного не так, г. Уэллс, — Павлов не раз, но совершенно тщетно молил выпустить его из ада, столь мило изображенного вами..» Увы, опять и опять немного не так, уважаемый, любимый Иван Алексеевич: ад не был «мило» изображен. «На самом же деле подлинное положение в России настолько тяжело и ужасно, что не поддается никакой маскировке».
Из самых крупных советских руководителей Уэллс общался с Лениным и Зиновьевым. Встреча с Лениным была назначена на утро 6 октября — так, во всяком случае, утверждают советские источники. У Берберовой написано «12 октября», а у Клэр Шеридан — «5 октября». Уэллс с Джипом выехали в Москву вечером 4-го (а если верить Шеридан, то 3-го) курьерским поездом (он шел 14 часов) в спальном вагоне люкс, где, однако, «не было ни графинов для воды, ни стаканов, ни тому подобных мелочей». Мария Бенкендорф с ними не поехала. Сопровождал их матрос, которому в Петрограде выдали серебряный чайник, чтобы британцы могли попить чаю в дороге. Уэллс догадался, что чайник принадлежал ранее частному лицу, однако написал, что «по-видимому, этот чайник вступил на путь служения обществу совершенно законным образом». Это не простодушие, а так называемый британский юмор, которого наши в большинстве своем не поняли.
В Москве Уэллсов устроили в особняке на Софийской набережной, где раньше было (и снова есть) британское посольство; тогда же это был дом для приема заграничных гостей и одновременно — склад экспроприированных художественных ценностей, которые Эйч Джи обозвал «великолепной рухлядью»: «Эти вещи никак не подходят новому миру, если только на самом деле русские коммунисты строят новый мир». В особняке жили также Клэр Шеридан и американский банкир Фрэнк Вандерлип, приехавший для переговоров о заключении концессий в Баку и на Камчатке, а также, как считается, для «прощупывания почвы» относительно установления дипломатических отношений США с советской Россией. Уэллсу это обстоятельство казалось подозрительным — как можно толковать о каких-то концессиях с непризнанным правительством? Таинственный Вандерлип перемешался по городу самостоятельно, а Шеридан курировал сотрудник Наркоминдела Михаил Маркович Бородин (Грузенберг), бывший ранее послом в Мексике и выполнявший разные деликатные миссии в США. Ему же поручили и Уэллсов — на два дня.