По сравнению с этим напыщенным фатом Катценбергер — гигант. Вот в ком односторонность торжествует победу. Он господствует на сцене. Если бы сейчас поставили в театре — что заманчиво — эту комедию, Катценбергера следовало бы играть как олицетворение деформации человека в результате разделения труда, как предвосхищение ставшей бесчеловечной специализации, как предтечу врачей, использовавших концентрационные лагеря в качестве лабораторий, и физиков-атомщиков, которые любят свои бомбы больше, чем людей.
Жан-Поль знает эти опасности. Уже в одном из сатирических фрагментов 1790 года («Биографические данные профессора философии Цебедеуса…») речь идет о профессиональном цинизме врачей, юристов и офицеров; ощущение этой опасности вызвало к жизни идеальный образ многосторонности в «Титане», односторонний же Шоппе погибает. Теперь же победителем выходит Катценбергер, автор делает все возможное, чтобы повысить его человеческую и моральную ценность. Можно смеяться над его смешной погоней за монстрами, но его циничный холод лишь скрывает горячее сердце. Он любит дочь, бесплатно лечит бедняков и во всем проявляет чувство бюргерского достоинства. Его алчность, движущая фабулу, забавна, а не отталкивающа; она лишь оборотная сторона любви к науке. И любовь эта делает его не только человеком реальности, но и идеалов. Его цинизм шокирует благородное курортное общество, но не читателей, — он благотворно отличается от сладковато-сентиментального поэта. И когда Катценбергер однажды впадает в патетику, автор не осаживает его: «Наука — нечто столь же великое, как религия, — она заслуживает не меньше крови и отваги, чем та».
Книга эта, писал Жан-Поль к Отто, «несколько оживит (надеюсь) в твоей памяти мелкий цинизм речей твоего старого друга, который так часто шутил с тобой о всяких отвратительных вещах», — и в небольшом романе действительно ясно видна радость, с какой Жан-Поль дает волю этой стороне своего существа, ощущавшейся еще в переписке с другом юности Германом. И поскольку композиция завершена и каждая острота попадает в цель, эта радость передается и читателю. Но иной раз смех застревает в горле, когда цинизм речи переходит в цинизм чувств, и за симпатичным одержимым ученым проступает специализированное чудовище будущего столетия. Так, Катценбергер охотно женился бы на женщине-уроде, «если иначе ее никак не получить задешево». Он пугает жену безобразными животными в надежде, что из-за этого родится монстр. Перспектива увидеть казнь почтового грабителя приводит его в прекраснейшее настроение, а задумав избиение из мести (которое потом не состоится), он готовится к нему не без садистской выдумки.
Но книга не задумана как предостережение от подобных типов. Жан-Поль видит их, признает, смеется над ними и позволяет им брать верх над всем миром — от князей до поэтов. Когда он объясняет, почему врачи могут позволять себе грубости по отношению к князьям (а именно: потому что они им необходимы), он так заканчивает абзац: «Несколько иначе дело обстоит с поэтами, философами и моралистами, даже проповедниками (в наши дни); их никогда не признают достаточно вежливыми, ибо они никогда не бывают достаточно необходимы».
Поездка доктора на курорт — время триумфа для Жан-Поля, и не случайно один из крупнейших анатомов того времени, Иоганн Фридрих Мекель из Галле, в 1815 году посвящает свой труд о врожденных уродствах «De duplicitate monstrosa» Жан-Полю, открыто благодаря его за образ д-ра Катценбергера.
Логика, таким образом, побеждает образ, наука — поэзию. Отрезвленный автор предает волшебство фантазии во имя реальности. Лишь однажды прежний Жан-Поль берет верх над новым: когда любящие воссоединяются, снова в свои старые права вступают луна и летняя ночь, соловьи и радостные мечты — это маленькое нарушение стиля предвосхищает большое нарушение его в следующей книге.
Называется она «Жизнь Фибеля, автора Биенродского букваря» и начата была еще до «Шмельцле», а закончена уже после «Катценбергера»; она во многом предвещает позднейшую автобиографию и великолепна в деталях, великолепна по замыслу, но в целом неудачна: здесь соединены взаимно уничтожающие друг друга пародия и идиллия.
Биографии Канта, написанные после его смерти (1804), с их нелепой педантичностью служат лишь поводом для пародии. Тема же Жан-Поля — опять-таки Жан-Поль. («Уменьшенное, я» — так он однажды называет Фибеля.) Мучаясь сознанием бессмысленности своего труда, автор пытается пародировать свою славу и успех, но — не может. Он задумал свести счеты с самим собой, но это превратилось в половинчатое самооправдание.
Замысел блистательно подходит для пародийного комизма: ученая биография смешна уже из-за ничтожности ее объекта — автора двадцати четырех стихов азбуки. Но история, вложенная Жан-Полем в уста того, кто ведет рассказ от первого лица, представляется ему для пародии слишком святой: история детства и юности. Она превращается у него в одну из самых его прекрасных идиллий, не лишенную (как и ранние) социальных элементов. Но когда затем (и это свидетельствует о скепсисе автора) счастье чистой жизни сводится на нет жаждой славы будущего литератора, у Жан-Поля иссякает материал и, подчиняясь замыслу, снова звучат пародийные тона, они падают в пустоту и оказываются диссонансами.
В написанном в 1811 году предисловии Жан-Поля уже нет речи о сатирическом замысле, а только о прославлении «сельской тиши» и о жизни, в которой, собственно говоря, ничего не случается. «Я лично охотно признаю, что, получи я от кого-то сочиненьице, подобное тому, что сейчас преподношу миру, оно было бы находкой для меня и вдохнуло бы в меня жизнь; ибо я стал бы читать его как подобает, а именно — в конце ноября… или же в сильную вьюгу и под свист ветра — в такой вечер я велел бы подбросить побольше дров, снял сапоги, отложил на день политические газеты или вообще оставил их не читанными, пожалел бы экипажи, везущие гостей к чаю, а себе попросил бы только стакан да добрый ужин, как во времена детства, и на утро кофе на пол-лота больше, потому что заранее знал бы, какой толчок для собственной блистательной книги даст мне эта превосходная, спокойная книжка (да будет вечно благословен ее автор!)… Вот как я читал бы это сочиненьице; но, к сожалению, я сам написал его прежде».
Но такому отречению от мира (который совершенно не подходит к «Фибелю» в целом) соответствует концовка биографии, некогда задуманной как пародия на биографию. Рассказчик находит пропавшего без вести Фибеля в лесной глуши, окруженного пуделями, белками и птицами, невинного и счастливого, как в дни детства, уже стодвадцатипятилетним старцем со сверкающими зубами и белокурыми локонами — они снова отросли у него при вторичном рождении, когда он отрекся от литературного тщеславия и снова доверился природе. Для героя это самоуглубление и покаяние, для автора — сокровенная мечта: бегство от проклятия честолюбия, возврат ко временам до грехопадения.
«Многое на земле мне теперь безразлично, за исключением неба над ней; и сейчас я слишком ясно понимаю, с каким тщеславием думал прежде о своем даре». Так старец подводит итог своей удачливой писательской жизни, и автор наверняка хотел бы отнести этот итог и к себе самому. В качестве последней точки это было бы величественно и трогательно; но, как с извиняющейся интонацией сказано в «Катценбергере» о поэте: «Разве он столь уж виноват, что его фантазия сильнее характера и что ему видится и рисуется более высокое, чем он в силах выполнить?»
Сорок восемь лет было поэту Жан-Полю, когда он сформулировал мудрость поэта Фибеля, обретенную им в глубокой старости. Но уже в тридцать восемь он написал (другу Тириоту), чего стоит всякое саморазоблачение поэта: «Я по собственному опыту знаю пикантную сладость этой двойной роли, в которой одновременно играешь, и живешь, и пародируешь свою жизнь».
Однако за этим мудрым признанием не следует действия. Ни о каком бегстве от мира или творчества у Жан-Поля не может быть и речи — к счастью для потомков, — ибо наряду со многими ненужными сочинениями появляется еще один важный роман. Да и «Фибеля» завершает не сентенция о бегстве от мира, а фраза: «Затем я медленно пошел своим путем».
На позднее творчество, которое раскрывает иллюзорность многих надежд раннего творчества, можно, конечно, посмотреть и с другой точки зрения. Как Дон Кихот (которому «Фибель» и «Комета» обязаны многим) живет полной жизнью, ибо осознает свое безумие лишь в смертный час, так и жан-полевские чудаки счастливы в мире своих иллюзий: Шмельцле неколебимо верит в собственную храбрость, Катценбергер — в науку, Фибель (исключая конец) — в свое поэтическое величие, Николай Маргграф (из «Кометы») — в свое княжеское происхождение. Будь у его произведений трагический конец (но ни в одном из них его нет), он состоял бы в излечении безумцев от их одержимости. Ибо мир, к сожалению, таков, что счастливы в нем могут быть лишь дураки.
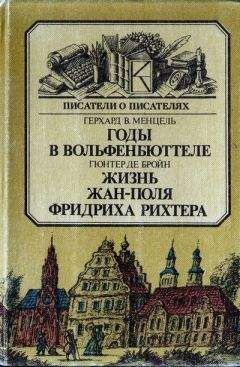
![Константин Аксаков - Вальтер Эйзенберг [Жизнь в мечте]](https://cdn.my-library.info/books/158291/158291.jpg)



