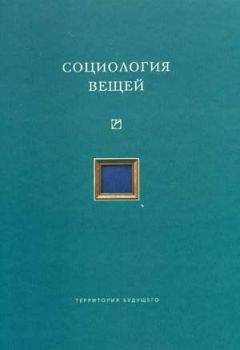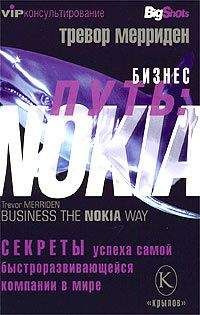Ключевое место в этих дискуссиях занимали идеи, вращающиеся вокруг роли науки и техники, и, как правило, негативно оценивающие влияние знания на социальные отношения. Предшествовавшие дискуссии воплотились в понятии «бездомного разума» (Berger et al. 1974), которое тесно связывает индивидуализацию с «абстрактностью» технической продукции, вторгающейся в повседневную жизнь: «Практически во всех своих областях, – утверждают авторы данного понятия, – современная жизнь непрерывно атакуется не только материальными объектами и процессами, порожденными техническим производством, но и формируемыми им типами сознания» (1974: 24, 39). Такой стиль мышления основан на понимании реальности как совокупности разделяемых и по отдельности контролируемых компонентов, на возможности использования этих компонентов в самых разных целях (различение средств и целей) и на присутствующей в трудовом процессе «абстракции» – это понимание созвучно представлению Белла (Bell 1973: 14) о «центральном положении теоретического знания» как источника инноваций в техническом производстве. Будучи привнесенными в сферу социальной жизни, все эти явления приводят к возникновению «фрагментарной» (расколотой) идентичности и к анонимности социальных отношений; Бергер и пр. называют отчуждение «симметричным коррелятом» или «ценой» индивидуализации (Berger et al. 1974: 196). Добавьте к этому плюралистическую структуру и социальную мобильность современных обществ, ставящих индивида перед изменчивостью истин и систем верований, и вы получите ситуацию, в которой надежность этих систем, их смыслопорождающая функция подрываются, они бесполезны поскольку более не служат основанием и источником уверенности для человека. В итоге, утверждают авторы, мы оказываемся «бездомными» не только в обществе, но и во вселенной (Berger et al. 1974: 184–185).
В аналитическом плане эти исследователи демонстрируют большую амбициозность, чем авторы многих более поздних работ; они пытаются установить, каким именно образом экономическая и техническая цивилизация уничтожает гражданственность и ведет к возникновению, как бы мы сейчас сказали, необремененного и неукорененного «Я» – вырывая личность из локального контекста взаимодействий, который прежде обеспечивал надежную основу для процесса самооформления (см., например: Sandel, 1982; Walzer, 1990; Etzioni, 1994). Позднейшие исследования больше внимания уделяют разновидностям сознания, соответствующим индивидуализации; при этом налицо отказ от бергеровской метафоры бездомности в пользу выражений клинического и социологического языков описания. Анализ нынешней «культуры нарциссизма» (Lasch, 1978) проливает свет на психологические синдромы индивидуализации в личных отношениях. Бергер и его коллеги все же изображают личную жизнь как убежище, как берлогу, в которой мы ищем спасения от суровой реальности внешнего мира – хотя упоминают они также и о «структурной слабости» этого убежища, где личной жизни не укрыться от «холодных ветров бездомности» (Berger et al. 1974: 187 ff). Лаш считает, что сфера частной жизни «рухнула», ее уничтожили катастрофы анархического социального строя, убежищем от которых она служила.
Лаш анализирует семейный личный опыт в «квазивоенных условиях», обнаруживаемых не только в обществе, но и в стенах частного жилища. Краеугольным камнем таких условий является нарциссическая личность нашего времени – Лаш возвращает этому концепту психологический и клинический смысл, тем самым, выводя его из сферы популярного использования, где он трактуется как чистая антитеза гуманизму и социализму. Аргументация Лаша основывается на возрастающем значении диффузных расстройств характера, в которых нарциссизм является важным элементом. Нарциссический синдром включает в себя многие особенности, такие как неспособность ребенка терпеть неопределенность или беспокойство, его яростную реакцию на отвергнутую любовь, и компенсирование всего этого чрезмерным возвеличением своего «Я», постоянными проекциями образов «хорошего Я» и «плохого Я» и т. д. Эти явления и формирующиеся под их воздействием черты личности – включающие страх перед эмоциональной зависимостью, эксплуататорский подход к личным взаимоотношениям, и в то же время жажду эмоционального опыта, призванного заполнить внутреннюю пустоту, – можно проследить в эрозии отношений между супругами и между родителями и детьми, в бегстве от чувств в отношениях между полами и в нынешнем обострении сексуальных сражений, в страхе перед старостью, в деградации и товаризации образования и т. д.
Более позитивное социологическое использование понятий «бездомности» у Бергера и «нарциссизма» у Лаша выражается в таких определениях, как «изменение статуса традиций в современной жизни», включающее в себя «замену внешнего авторитета внутренним»: индивиды вынуждены опираться на собственные ресурсы в поисках внятного жизненного курса, идентичности и форм общности с самими собой (Beck and Beck-Gernsheim, 1994, 1996; Giddens, 1994a; Heelas, 1996: 2). Хейдж и Пауэрс (Hage and Powers, 1992) описывают эту тенденцию на языке ролевой теории, указывая, что из-за необходимости новых знаний о производстве и потреблении мы подвергаемся процессу усложнения профессиональных и семейных ролей, в результате чего эти роли становятся более зависимыми от последствий человеческого взаимодействия. Менее регулируемые, более сложные ролевые наборы требуют навыков взаимоотношений, основанных на постоянных усилиях, готовности к эмоциональным перегрузкам, неопределенности и социальной креативности. Однако, как и предыдущие авторы, Хейдж и Пауэрс также полагают, что подобные требования болезненно отражаются на неприспособленном к ним переходном поколении (Hage and Powers, 1992: 133f, 197f) и приводят к массовому ролевому фиаско: у индивидов не хватает ресурсов для того, чтобы справиться с современными обстоятельствами.
Упадок общины и традиций также оставляет индивида беззащитным – у него не остается психологических орудий для совладания со свободой выбора и превратностями современной жизни, к которым ведет эта свобода (Bauman, 1996: 50f). Именно здесь в игру снова вступает знание – в обличье экспертов, которые помогают сделать выбор, исправляют ущерб и т. д., способствуя появлению «умных людей», как называет их Гидденс (см., например: Giddens, 1994b: 92ff). «Умные люди», полагающиеся на знания экспертов в тех вопросах, где уже не властно прошлое, в экзистенциальном плане не обязательно богаче, чем описанные Лашем нарциссические личности. Тем не менее акцент на возможности выбора своего жизненного пути и непосредственного окружения (Coleman, 1993; Etzioni, 1994; Lash, 1994) вносит конструктивную нотку в мрачные рассуждения о моральной и экзистенциальной ненадежности личных отношений в наше время.
2. Постсоциальные преобразования
Переход от рассмотрения индивидуализации в категориях отчуждения к ее пониманию в контексте требований взаимодействия значителен: он отражает переход от индустриального общества (все еще доминирующего на картине, нарисованной Бергером и его коллегами) к постиндустриальному, о котором идет речь в недавних исследованиях. Заостряя сделанные в них выводы, можно сказать, что сегодня мы сталкиваемся не только со специфическими и, возможно, новыми смыслами индивидуализации, но и с «постсоциальными» явлениями в более широком смысле. Каковы же эти постсоциальные явления?
Помимо краха общины и традиций, составляющего основу индивидуализации, в число текущих преобразований входят некоторые другие виды «отступления» социальных принципов. Чтобы разобраться в этом, мы должны вспомнить, что области социального упорядочивания и структурирования в течение XIX в. и в первые десятилетия ххв. не сужались, а, напротив, расширялись. Прогресс наблюдался по крайней мере в трех взаимосвязанных сферах: в развитии социальной политики и государства социального обеспечения; в смене менталитета, благодаря которой социальное мышление заняло место традиционных, либеральных идей; и в сфере корпоративных форм. В этих же самых сферах в настоящее время наблюдается «отступление», и в первую очередь «эрозия исконных социальных отношений» (Coleman, 1993), которая ведет к индивидуализации.
Сперва об экспансии социальной политики. Согласно многим авторам, эта экспансия реализовалась как попытка национальных государств (которые, возможно, сами сформировались в результате подобного действия)[222] преодолеть социальные последствия капиталистической индустриализации. Социальная политика в известном нам современном варианте восходит к тому, что можно назвать «национализацией социальной ответственности» (Wittrock and Wagner, 1996: 98ff). Под этим термином подразумевается оформление социальных прав наряду с правами личности – государство взяло на себя роль «естественного регулятора» и организатора трудовых отношений, источника пенсий и социального обеспечения, пособий по безработице, всеобщего образования и т. д.