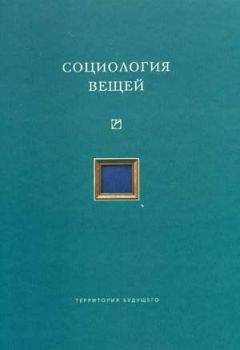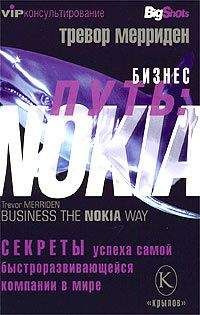Сперва об экспансии социальной политики. Согласно многим авторам, эта экспансия реализовалась как попытка национальных государств (которые, возможно, сами сформировались в результате подобного действия)[222] преодолеть социальные последствия капиталистической индустриализации. Социальная политика в известном нам современном варианте восходит к тому, что можно назвать «национализацией социальной ответственности» (Wittrock and Wagner, 1996: 98ff). Под этим термином подразумевается оформление социальных прав наряду с правами личности – государство взяло на себя роль «естественного регулятора» и организатора трудовых отношений, источника пенсий и социального обеспечения, пособий по безработице, всеобщего образования и т. д.
Последствием такой экспансии социальной политики стали новые представления о силах, управляющих судьбой личности: отныне все они воспринимались в качестве обезличенных, социальных сил. Рабинбах показал: рассмотрение индивидуальных рисков, нищеты и неравенства как социально обусловленных явлений повлекло решительный разрыв с предшествовавшими индивидуалистическими либеральными идеями (см., например: Rabinbach, 1996). Вытеснив представления, согласно которым индивид автоматически адаптируется к изменениям условий своего существования, эти взгляды основное внимание привлекли к причинам нарушения социального равновесия, например, к социальной обусловленности несчастных случаев на производстве[223].
Третья сфера экспансии – сфера социальной организации. Развитие национального государства влекло за собой развитие бюрократических учреждений; правительства превращались в многоуровневые администрации со сложным членением. Рост промышленного производства привел к возникновению фабрики и современной корпорации; развитие здравоохранения получило выражение в форме клиники, а современной науки – в научно-исследовательских институтах и исследовательских лабораториях. Индустриальное общество в национальном государстве немыслимо без современных, сложных организаций. Последние представляют собой локальные социальные порядки, призванные организовывать работу коллективов социально-структурными средствами. В целом, если индустриализация дала мощный импульс индивидуализации, она также породила различные виды социального страхования, социального участия и социального мышления – посредниками при этом выступали государство, рабочие движения и пр.
Для нашего современного опыта ключевым является тот факт, что это развитие социальных принципов сегодня резко затормозилось. Во многих европейских странах и в США государство всеобщего благосостояния, с его многочисленными механизмами социальной политики и коллективной защитой от индивидуальных бедствий, находится в процессе «перестройки», которая больше напоминает «демонтаж». По словам Баумана, новое мировое устройство состоит из наций, поделенных на тех, кто платит, и тех, кто получает блага, причем те, кто платят, требуют не предоставлять благ тем, кто получает их бесплатно (Bauman, 1996: 56).
Социальные объяснения и социальное мышление противоречат, среди прочего, биологическим теориям о поведении человека, в борьбе с которыми они пытаются доказать свою истинность. Если Фрейд полагал, что исследовавшиеся им отклонения и нервные болезни вызваны неспособностью индивида прийти к согласию с суровым внутренним «цензором» – представителем общества (Lasch, 1978: 37), то современные психологи более склонны искать причину психических расстройств в наследственности. Мобилизация социального воображения представляла собой попытку выявить коллективные основания личных проблем, и наиболее вероятные реакции на эти проблемы. В настоящее время такую коллективную основу чаще усматривают в генетическом сходстве социально не связанных друг с другом членов популяции.
Однако интереснее всего то, что и социальные структуры начинают терять почву под ногами. Сложные организации разваливаются на системы мелких независимых центров (аналогичных структурным подразделениям, результаты деятельности которых измеряются полученной ими прибылью), и в ходе этого процесса отчасти теряется структурная глубина иерархически организованных социальных систем, представителями которых эти организации прежде являлись. Когда услуги, предоставляемые живым человеком, заменяются автоматизированными электронными услугами, не требуется вообще никаких социальных структур – только электронно-информационные структуры (см.: Lash and Urry, 1994). Главной ареной таких глобальных сделок, как торговля фондами или форекс-трейдинг, оказываются электронные средства связи, типа компьютерных сетей или телефона. В этих случаях колоссальные социальные ресурсы мультинациональных корпораций заменяются микроструктурами коммуникации и взаимодействия, на которые и ложится ноша транзакций. Судя по всему, превращение локальных обществ в глобальные не влечет за собой дальнейшего нарастания социальной сложности. Создание «всемирного общества», вероятно, достижимо с помощью усилий индивидов и социальных микроструктур, и возможно, становится осуществимым лишь в связи с подобными структурами (см.: Bruegger and Knorr Cetina, 1997).
3. Креолизация социального: споры об обществе знания
Подобные «постсоциальные» преобразования свидетельствуют о том, что известные нам социальные формы уплощаются, сужаются и истончаются; социальное отступает во всех описанных выше смыслах. Можно интерпретировать эту тенденцию как очередной импульс к индивидуализации: вполне допустимо предположить, что отныне именно индивиды, а не государство, будут нести ответственность за удовлетворение потребностей в социальном обеспечении и социальной безопасности, и что в обществе услуг именно с личностью, а не с крупномасштабными организациями, сильнее будут связываться средства производства и коммуникации. Такая интерпретация точно фиксирует положение дел: в современном обществе на подъеме находятся структуры, строящиеся вокруг личности, а не коллектива. Однако она оказывается ограниченной из-за своего взгляда на нынешние изменения с одной лишь точки зрения утраты известных форм социального. Такому сценарию простой «десоциализации» мне хочется противопоставить следующее соображение: уплощение структур, отступление их организующих принципов, истончение социальных отношений происходят одновременно с развитием «других» культурных элементов и практик современной жизни, и в какой-то степени могут даже являться их следствием.
Как представляется, отступление социальных принципов не оставляет разрывов в ткани культурных паттернов. Общество не лишается текстуры, хотя, возможно, следует пересмотреть вопрос о том, из чего эта текстура состоит. Если такое представление верно, то идея о постсоциальных преобразованиях уже не относится к ситуации, в которой социальное просто «вытесняется» из истории. Скорее, она описывает ситуацию, в которой социальные принципы и структуры (в прежнем смысле) креолизуются «другими» культурными принципами и структурами, на которые в прошлом не распространялось понятие о «социальном». Согласно этому сценарию, постсоциальные отношения не являются асоциальными либо несоциальными. Их можно назвать отношениями, характерными для обществ позднего модерна, которым свойственно сосуществование и переплетение социального с «другими» культурами.
Здесь в роли чужеродной культуры, подразумевавшейся также во всех предшествовавших исследованиях индивидуализации, выступают знание и экспертиза. В наши дни широко распространено убеждение, согласно которому современные западные общества в том или ином смысле управляются знаниями. Данная идея находит воплощение в многочисленных теориях наподобие концепций «технологического общества» (см., например: Berger et al, 1974), «информационного общества» (см., например: Lyotard, 1984; Beniger, 1986), «общества знаний» (Bell, 1973; Drucker, 1993; Stehr, 1994), «общества риска» или «общества, основанного на опыте» (Beck, 1992). Современным защитником этих представлений выступает Дэниэл Белл (Bell, 1973), по мнению которого знание оказывает непосредственное воздействие на экономику, проявляясь в широкомасштабных явлениях вроде изменений в разделении труда, возникновении новых специализаций и новых форм предприятий. Белл и близкие ему авторы (см., например: Stehr, 1994) также приводят обширные статистические данные по использованию в Европе и США научно-исследовательских разработок и – судя по их размаху, задействованному в них персоналу и выделяемым на них средствам – делают вывод о заметном возрастании их роли.
Недавние оценки не столько изменили эту аргументацию, сколько указали на другие сферы, в которых ощущается влияние знаний. Например, заявления о «технизации» жизненного мира посредством всеобщих принципов когнитивной и технической рациональности представляют собой попытку понять распространение абстрактных систем в повседневной жизни (Habermas 1981). Дракер (Drucker, 1993) проводит связь между знаниями и изменениями в организационной структуре и практике менеджмента, а Бек (Beck, 1992), говоря о союзе ученых с капиталом, раскрывает процесс преобразования политической сферы, осуществляющийся через научные организации. Наконец, Гидденс, утверждая, что мы живем в мире всевозрастающей рефлексивности, проводником которой выступают системы экспертизы, распространяет свой анализ на саму личность, указывая, что в наши дни индивиды взаимодействуют с более широким окружением и с самими собой благодаря поступающей от специалистов информации, регулярно интерпретирующейся и активно используемой в повседневной жизни (см., например: Giddens, 1990, 1994b).