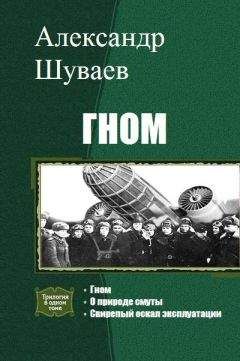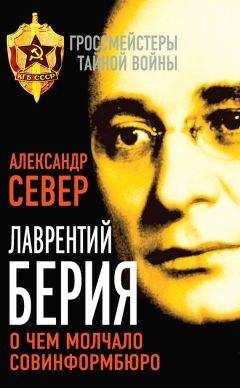De profundis
Нельзя сказать, чтобы это напрямую относилось к Инструкции. Так, обычный совет. Закрывать глаза, пока не войдет в привычку. Тогда – да, кладешь руки на Коробку, закрываешь глаза, и начинаешь видеть. Не так видеть, как помнишь какую‑нибудь вещь, а так, как будто ее кто‑то нарисовал. Вроде бы и сам, но не вполне: картинка вовсе не всегда менялась так, как ему хотелось, проявляла норов, упрямилась. Чем сильнее Саня пытался переупрямить ее, расположить не так, а этак, разглядеть не с этого боку, а с другого, тем хуже выходило. Он открывал глаза оттого, что скулы начинало нестерпимо ломить от напряжения, и тут же все пропадало, и он снова видел свои руки, лежащие на диковинной коробке с Кое‑Чем. В пору было плюнуть, но игра затягивала, и он снова брал в руки проклятую штуковину, закрывал глаза и вспоминал Инструкцию.
Чуть‑чуть, только самую малость попривыкнув, обратил внимание, что и руки свои чувствует как‑то чудно. Как будто провалились неизвестно‑куда, не в силах нащупать ничего привычного, да к тому же стали не то безмерно длинными, не то, наоборот, исчезающе малыми. И только из‑за окончательной мизерности вещей, к которым он пробует их протянуть, кажутся такими громоздкими и неуклюжими.
Такими неуклюжими, что все ломали и рушили при самом осторожном движении. И вздымали невесомой пылью, если движение было не таким осторожным. Так что он пока, от греха, старался не шевелить ими вообще, – и ничего страшного, потому что, повиснув неведомо – где, они и не затекали, и не уставали вовсе. Не с чего было.
Первый, самый малый сдвиг пришел, а он заметил, запомнил, и примотал обстоятельства этого момента туго‑натуго к стержню "крипт", когда он, со злости, решил не напрягаться. Глядеть, куда глаза глядят, и довольствоваться теми картинками, которые при этом получаются. Не гнуть, как медведь дугу, а запоминать, как что ложится при каком повороте и из какого начального положения.
Примерно на третий день он нашел себе такой отступ, на котором застрял долго. Только глядя, и при этом ничего не делая. Вот если в этом месте бесконечного ряда, то штучки были все одинаковые, как пуговицы, меленькие, неподвижные и скучные, потому что менялись редко и одинаково. На один, край – на два, манера. А вот если взять чуть в сторону и, поближе, что ли? – картина менялась. Тут детальки были куда как разнообразнее и интереснее. На разный манер выворачивались наизнанку. Соединялись в цепочки. Смыкались в колечки. Получалось даже так, что "сцеплялись", как звенья цепочки, пара таких колечек. Одинаковых или разных. Собирались в прихотливую паутину, или даже строились в "башни" или "корзинки", – было не совсем похоже, но других сравнений у Сани тогда не было.
А еще они портились. Ломались, или как‑то "пачкались" превращаясь во что‑то совсем другое. Тогда, помнится, впервые промелькнула у него смутная мысль, что мусор, – это просто‑напросто то, чего ты не ждешь в настоящий момент. Это как к обеду, – да полено вместо ложки. А вещь, ненужная СОВСЕМ, вообще не может испортиться. Он даже на время вернулся в начало, к простеньким деталькам, чтобы глянуть на них по‑другому, и с доселе неиспытанным восторгом убедился, что УГАДАЛ: некоторые из "простеньких" тоже отлично умели строиться в ажурные "башенки". Глаз привык, и теперь без ошибки видел, какие из них пожестче, а какие… не мягче даже, а как‑то посвободнее. Но даже и тут кое‑где одинаковые детальки можно было сцепить на разный манер. Хотя и не всегда. Позже, когда ему пришлось учить геометрию, она очень легко и плотно легла на те впечатления от самых первых дней общения с Похоронкой. Легла, добавив к инструкции самую малость: в основном по части того, как все это – облечь в слова, чтобы было понятно другим. Правда, учителя с ума сходили от своеобразия его трактовок, но потом – ничего. Привыкли.
Одним из главных правил было то, что не все встречалось одинаково часто. Что‑то – бросалось в глаза, а что‑то – приходилось высматривать. Что‑то происходило постоянно, а чего‑то приходилось ждать довольно долго. Глаз тут было явно недостаточно. И наступил момент, столь же памятный, дающий такой же глубокий отпечаток, когда к делу подключились руки. Здесь они давали возможность сделать редкое – частым, а почти невозможное – вполне возможным.
А еще стало куда легче играть "отступом", делать картинки ближе или дальше, по желанию, хоть и было это вовсе непросто. После таких занятий руки у него ломит так, как будто он в одиночку разгрузил вагон с цементом, и Саня этому вовсе не удивлялся.
Если приближать, то правильная, четкая "деталька", становясь на взгляд крупнее, одновременно "расплывалась", теряя четкость очертаний, так что разглядеть больше деталей все равно не удавалось. И он не одним умом даже, а всем телом осознал, что тут ничего сделать не удастся. Если удалять, то рано или поздно он находил себя парящим над бескрайней горной страной с чудовищными пиками и бездонными провалами, да еще и смутной, будто дрожащей от непрекращающегося землетрясения. При этом из мира бесследно исчезала правильность и одинаковость, он неузнаваемо и радикально менялся.
Ни то, ни другое ничего не давало пока что ни уму, ни сердцу, и он довольно надолго застрял в приверженности к "золотой середине". Равно как и на этапе "Глаза и Руки" вообще, потому что неимоверных трудов требовало от него добиться, чтобы то и другое действовало одновременно и в согласии. Поначалу он постоянно ослаблял контроль либо над тем, либо над другим, – и все тут же разваливалось и шло прахом. Тот, кто в сравнительно зрелом возрасте осваивал вождение автомобиля либо, того хлеще, пилотаж небольшого летательного аппарата, поймут суть этих трудностей. Трудности, которые в возрасте нежном испытывают практически все, осваивая высокое искусство ползания либо пешего хождения, по своей природе и еще ближе, вот только вспомнить их куда сложнее.
В это время, в промежутках, он размышлял порой: как бы могло проявить себя "подключение" ног, примерно так же и в той очередности, в которой это происходит у нормального, здорового младенца, но так ничего и не надумал. Это тоже получилось само собой, и еще более неожиданно, чем прежние его достижения. Он опять расслабился, забыв о необходимости жутких трудов по координации глаз с руками, – да и отошел от Золотой Середины так далеко, как никогда не отходил раньше. Младенец, научившись уверенно доставать до погремушки ручкой, впервые пополз.
…Это была шляпка гвоздя, вбитого в топчан, на котором пребывало его бренное тело. Он во всех подробностях разглядел его в темноте с закрытыми глазами и отлично узнал. Так он неожиданно для себя выяснил, что на протяжении вот уже почти двух месяцев разглядывал, как, на самом деле, устроена шляпка гвоздя. Не она одна, понятно, а еще многое, многое другое, узнать бы еще, что именно. Так появилась первая связь между "маленьким миром" и тем, в котором он жил уже шестнадцатый год.
Поначалу девчонки на заводе "косичку" рисовали просто мелом, украдкой и в укромных местах. Говорят, от Зойки Ерохиной пошло, но кто ж теперь скажет точно, так оно или не так? Кое‑когда еще и письма на фронт запрятывали в укромных местах, письма были глупые, как новорожденные телки, но прятались с умом, чтобы, не дай бог, не помешали работе изделия. Наскоро нарисованную "косичку" довольно скоро заметили на фронте, поскольку она действительно говорила о многом, и стали обращать внимание на это обстоятельство. Изделия 63‑го можно было отличить и так, но утверждать было нельзя: вдруг и остальные научились? Так что наличие "косички" в боевых частях начали отслеживать. Более того, искали с азартом, устраивали что‑то вроде соревнований по поискам, а найдя, звали к себе товарищей жестом, а потом молча тыкали пальцем, многозначительно улыбаясь: действительно получили Вещь! Как положено, таинственные картинки послужили поводом для множества баек, в том числе и чудовищно причудливых, и достаточно чудовищных. Но вот байки во время войны, на фронте, получив широкое распространение могут оказаться делом довольно серьезным. Во всяком случае, не могут не вызвать надлежащей реакции соответствующих органов. На то, что представляется сущей ерундой, может последовать достаточно жестокая реакция. Ключевое слово здесь, как ни странно, это самое "представляется". На самом деле ни одно масштабное явление не имеет и не может иметь ничтожной причины. Реакция была, можно сказать, бережная: запретить! Глупая, бесполезная блажь, которая, тем не менее, порождает кривотолки, должна быть запрещена.
…Из этого не вышло ровным счетом ничего. Хуже того, если до официального запрещения "косичка" на готовых изделиях безукоризненного качества появлялась все‑таки постольку‑поскольку, то после него ее появление рисунка стало правилом без исключения. Какой там мел! Кое‑когда – так и боразоновый лак по трафарету! Который не счистишь и алмазным абразивом. Начали следить, а он появлялся, начали удалять, а он появлялся во второй, в третий раз, запрятанный все изощренней. Одно время появилась тенденция делать клеймо все меньше и меньше, но длилось это недолго, поскольку, судя по всему, лишало затею смысла, потому что смыслом было: чтоб явственно видели! Без сомнений, не уворованное, свое, имеем право. На поиски и удаление начало тратиться заметное время. Военпреды, которым надо было срочно, сверхсрочно отправлять машины, начали посылать особистов на хрен, особисты – давили на военпредов. Поставили на это дело работников, но они явно саботировали, а в ответ на любые попытки надавить "включали дурака", надевая на физиономию выражение беспросветной сонной тупости. Кое‑кого ловили, наказывали, но очень редко. Берович напрямую обратился к начальнику особого отдела, но тот развел руками: