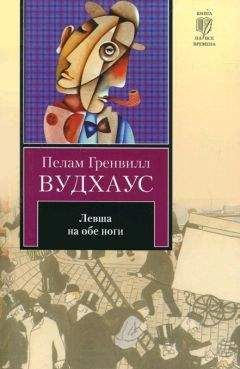Уилтон пожал плечами. В эту минуту он ощущал разлад с природой и человечеством. Ветер переместился на несколько румбов к востоку и теперь исследовал строение его организма с ловкостью первоклассного хирурга.
– Мы утонем! – вскрикнула Мэри Кемпбелл. – Мы утонем… мы утонем… мы утонем…
Обида вмиг покинула Уилтона. До сих пор он думал только о себе.
– Мэри! – воскликнул он с бесконечной нежностью.
Она бросилась к нему, как ребенок к матери, и он принял ее в свои объятия.
– О, Джек!
– Милая моя!
– Мне так страшно!
– Любимая!
В минуту грозной опасности ледяное дыхание страха выметает из нашей души все мелочное, наносное, и мы обретаем себя.
Мэри смотрела вокруг безумными глазами.
– Мы сможем взобраться по скалам?
– Сомневаюсь.
– А если позвать на помощь?
– Можно попробовать.
Они звали во весь голос, но ответом им были только грохот волн да крики морских птиц. Вода подступила к самым ногам, и пришлось отойти назад, под прикрытие утесов. Так они и стояли молча и ждали.
– Мэри, – тихо сказал Уилтон, – скажи мне одну вещь.
– Да, Джек?
– Ты меня простила?
– Простила ли! Как ты можешь спрашивать в такую минуту? Я люблю тебя всем сердцем!
Он поцеловал ее, и странная умиротворенность осенила его черты.
– Я счастлив!
– Я тоже.
Соленые брызги упали ей на лицо, и Мэри задрожала.
– Я ни о чем не жалею, – сказал Уилтон вполголоса. – Если все недоразумения позади и больше ничто не стоит между нами, за это стоит заплатить… хотя, конечно, будет довольно-таки неприятно.
– Может быть, все будет не так уж неприятно. Говорят, утонуть – это легкая смерть.
– Любимая, я говорил совсем не о том. Я имел в виду простуду.
– Простуду?!
Он серьезно кивнул.
– По-моему, нам ее не избежать. Летними вечерами бывает прохладно, а мы еще не скоро сможем отсюда выбраться.
Мэри рассмеялась пронзительным, неестественным смехом.
– Ты говоришь это только для того, чтобы подбодрить меня! В глубине души ты знаешь, что мы обречены. Спасения нет. Вода будет подбираться все ближе… ближе…
– Пусть себе подбирается. Дальше вон той скалы не поднимется.
– Как это?
– Не сможет. Я точно знаю – я здесь уже застрял один раз, на прошлой неделе.
Мэри смотрела на него, онемев, а потом вскрикнула. Невозможно сказать, чего в этом возгласе было больше – радости, удивления или гнева.
Уилтон рассматривал подступающие волны со снисходительной улыбкой.
– Почему ты мне не сказал?
– Я сказал.
– Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду! Почему ты позволил мне думать, будто нам грозит опасность, когда…
– Нам действительно грозит опасность. Скорее всего мы заработаем воспаление легких.
– Чху!
– Ну вот, ты уже чихаешь.
– Я не чихаю! Это было возмущенное восклицание.
– А по-моему, чихаешь. У тебя есть все основания чихать, а с чего бы тебе издавать возмущенные возгласы, я просто не могу себе представить.
– Это ты меня возмущаешь! Ты и твое гнусное коварство! Ты хитростью заставил меня сказать…
– Сказать?
Она молчала.
– Ты сказала, что любишь меня всем сердцем. Теперь уж не отвертишься, а больше мне ничего не нужно.
– Теперь это уже неправда!
– Нет, правда, – безмятежно отозвался Уилтон. – И слава Богу!
– Нет, неправда! Я с тобой больше не разговариваю!
Мэри отошла от него и приготовилась сесть на камень.
– Там медуза, ты ее расплющишь, – сказал Уилтон.
– Мне все равно.
– Зато ей не все равно. Знаю по опыту – ты меня уже столько раз расплющивала…
– Не смешно.
– Погоди, я еще смешнее могу.
– Не разговаривай со мной!
– Как скажешь.
Она уселась к нему спиной. Ради сохранения собственного достоинства следовало ответить тем же, и Уилтон сел спиной к ней. Равнодушный океан бесновался в двух шагах от них, ветер с каждой минутой становился холоднее.
Время шло. Стемнело. Бухта превратилась в черную пещеру с мелькающими во мраке белыми барашками на гребнях волн.
Уилтон вздохнул. Сидеть одному было неуютно. Куда веселее бы…
Чья-то рука коснулась его плеча, и робкий голосок произнес:
– Джек, милый, здесь ужасно холодно… Может быть, сесть поближе…
Он стиснул ее в объятиях, которые высоко оценил бы Хакеншмидт [7] и утробным басом похвалил бы Збышко [8] . Кости у Мэри хрустнули, но выдержали.
– Так намного лучше, – прошептала она. – Джек, по-моему, вода и не думает убывать.
– Надеюсь! – сказал Уилтон.
I. Он знакомится с Застенчивым
Оглядываясь назад, я неизменно прихожу к выводу, что моя собачья карьера по-настоящему началась в тот день, когда застенчивый джентльмен приобрел меня за полкроны. Именно тогда я перестал быть щенком. Сознание, что за меня заплачены наличные деньги, прибавило мне ответственности. Я стал серьезнее. После того как полукрона перешла из рук в руки, я впервые вышел в мир, и пускай жизнь в ист-эндской пивнушке богата событиями, все же по-настоящему широкий кругозор обретаешь, только вращаясь в большом свете.
Вообще-то и раньше моя жизнь была на удивление интересной и увлекательной. Я родился, как уже говорил, в пивнушке в районе Ист-Энда, и хотя обстановке пивной, возможно, не хватало лоска, зато скучать там уж точно не приходилось. В первые полтора месяца своей жизни я трижды бросался под ноги полисменам, когда те подходили к черному ходу проверить, что там за подозрительный шум, и все три раза успешно – полицейские спотыкались об меня и падали. Как сейчас помню, до чего это необычное ощущение, когда тебя в семнадцатый раз гоняют метлой по двору после тщательно продуманного набега на припасы в кладовой. Эти и другие подобные происшествия развлекали меня и все же не могли до конца удовлетворить мою беспокойную натуру. Я никогда не умел подолгу сидеть на одном месте, меня тянуло дальше, к новым впечатлениям. Возможно, виною тому унаследованная от предков цыганская черта в характере – мой дядя путешествовал с бродячим цирком, – а может, артистический темперамент, доставшийся мне от дедушки, который скончался, объевшись клейстером в бутафорской бристольского «Колизея», куда прибыл на гастроли – он снискал известность в театральных кругах как достойный участник труппы «Прыгучие пудели профессора Понда».
Благодаря такой непоседливости жизнь у меня была полна и разнообразна. Не раз я покидал уютный кров и следовал за совершенно незнакомым человеком в надежде, что он направляется туда, где интересно. Подозреваю, во мне есть и кошачья кровь.
Застенчивый джентльмен пришел к нам во двор однажды апрельским днем. Мы с матушкой дремали на старом свитере, который мы одолжили у бармена Фреда. Я услышал, как матушка зарычала, но не обратил на это особого внимания. Матушка у меня то, что называют – хорошая сторожевая собака, она рычит на всех, кроме хозяина. Поначалу я каждый раз вскакивал и лаял до хрипоты, теперь уж нет. Жизнь слишком коротка, чтобы лаять на каждого, кто входит в наш двор. Двор – позади пивной, здесь хранятся пивные бутылки и всякое такое, и постоянно кто-нибудь ходит туда-сюда.
И потом, я был уставший. Целое утро трудился – помогал людям перетаскивать ящики с пивом, то и дело забегал в распивочную поговорить с Фредом и вообще за всем присматривал. Вот и задремал, пригревшись на солнышке, как вдруг слышу, кто-то сказал: «Вполне себе страшилище!» Я сразу понял, что говорят обо мне.
Я и сам от себя не скрываю, и никто от меня не скрывал, что я нехорош собой. Даже матушка не считала меня красавцем. Она и сама не Глэдис Купер, но никогда не стеснялась критиковать мою внешность. Строго говоря, я еще не встречал того, кто бы постеснялся. Первое, что говорят, увидев меня: «Какая уродливая собака!»
Не знаю точно, какой я породы. Морда у меня бульдожья, а все остальное – как у терьера. Длинный хвост торчит прямо вверх, шерсть жесткая, кудлатая, глаза карие, а сам я – черный с белой грудью. Однажды я слышал, как Фред назвал меня королевским двор-терьером, а Фред в таких вещах разбирается.
Поняв, что речь идет обо мне, я открыл глаза. Хозяин смотрел на меня, а рядом с ним стоял человек, сказавший, что я страшилище, – худой, по возрасту примерно как наш бармен, ростом поменьше, чем полицейский. На нем были коричневые ботинки с заплатами и черные брюки.
Хозяин сказал:
– Зато характер хороший.
Что правда, то правда – к счастью для меня. Матушка всегда говорила: «Если у собаки нет ни влиятельных друзей, ни состояния, то чтобы пробиться в жизни, ей нужно быть либо красивой, либо дружелюбной». Только, по ее словам, с дружелюбием я перебарщивал. Она говорила еще: «Пускай у тебя доброе сердце, все равно не обязательно набиваться в друзья каждому встречному. Должна же быть своя собачья гордость!» Матушка гордилась тем, что она однолюб. Всегда была очень сдержанная и, кроме хозяина, ни с кем не целовалась – даже с Фредом.
Ну а я общительный, что уж тут поделаешь. Такая у меня натура. Я люблю людей. Мне нравится их запах, вкус их ботинок, звук их голосов. Возможно, это слабость, но стоит только человеку заговорить со мной – и у меня дрожь пробегает по позвоночнику, а хвост сам собой начинает вилять.