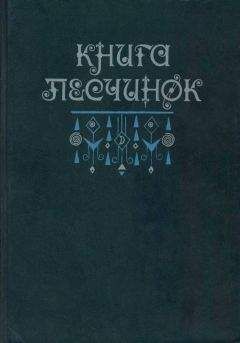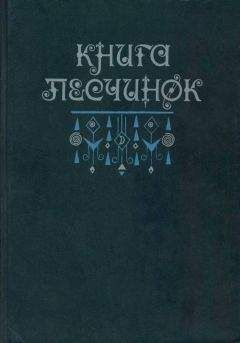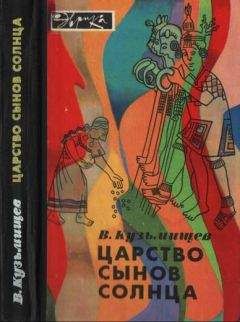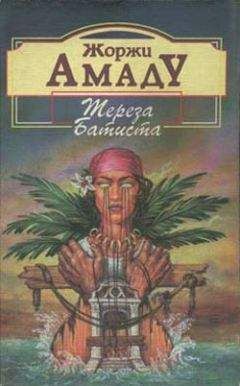— В кафе Такубы в тот час не было никого. И там было очень грустно. Ко мне подошел официант:
— Что желаете?
Я ничего не желала, но надо же было заказать хоть что-то.
— Порцию кокады [209].
Мой двоюродный брат и я, мы оба в детстве любили кокосы. Часы в кафе отсчитывали время. «Повсюду в городе часы отсчитывают время, и его надо тратить с осторожностью. Время истончится до прозрачности, и тогда придет он, и те две линии, нарисованные им, вновь станут единой, и я останусь навеки в самом сокровенном тайнике его сердца». Так я говорила себе и ела принесенное лакомство.
— Скажите, который час? — спросила я официанта.
— Двенадцать.
«В час возвращается со службы Пабло,— сказала я себе,— и если на такси и по окружной, то я могу еще немного подождать». Но я не стала ждать ни минуты и вышла на улицу. Солнце было белым, и голова у меня пошла кругом. Благое намерение уехать рассыпалось в прах, и для меня уже не существовало ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. На тротуаре стоял мой двоюродный брат; вот он подошел ко мне ближе. Глаза его были печальны. Он долго смотрел на меня.
— Ну, как ты? — спросил он своим глубоким грудным голосом.
— Я ждала тебя.
Он стоял неподвижно — как пантера. Я видела его черные волосы и кроваво-красную рану на плече.
— Тебе не страшно здесь одной?
Камни и крики вновь зазвенели вокруг нас, и я почувствовала: что-то обожгло спину.
— Не смотри! — сказал он. Опустился на одно колено и пальцами затушил вспыхнувшую на мне одежду.
— Уведи меня отсюда! — крикнула я изо всех сил, так как вспомнила, что стою перед домом своего отца, что дом горит и что там, за моей спиной,— мои погибшие родители и братья. Все это я увидела отраженным в его глазах в у минуту, когда он, коленопреклоненный, гасил на мне одежду. Я упала ему в объятья. Он закрыл мне глаза горячей ладонью.
— Мужчин больше не будет! — сказала я, не отнимая от лица его ладони.
— Не смотри!
Он крепко прижал меня к груди. Я слышала: сердце стучит, словно гром катится над горами. О, когда же окончится время и я всегда смогу слышать удары его сердца?! Мои слезы тушили жар его ладони, а она горела пожаром города. Крики и камни окружали нас, но у него на груди я была в безопасности.
— Усни вместе со мной...— попросил он меня чуть слышно.
— Ты видел меня этой ночью?..— спросила я.
— Да...— и голос его прозвучал печально.
Мы уснули в свете дня, в жаре горящего города. А когда проснулись — он поднялся и схватил свой щит.
— Спрячься где-нибудь до рассвета. Я вернусь за тобой.
— И он ушел, босой и легконогий... А я убежала, потому что, оставшись одна, я вновь, Начита, испугалась...
— Сеньорита, вам нехорошо?
Мужской голос — ну точно как у Пабло — настиг меня на середине улицы.
— Наглец! Что вы ко мне пристали?!
Я взяла такси и по окружной поехала к себе. И приехала...
Нача вспомнила ее возвращение: именно она, Нача, открыла сеньоре дверь. И именно она рассказала сеньоре, что случилось в доме. Позже вниз по лестнице поспешно скатилась Хосефина.
— Сеньора, ваш муж и сеньора Маргарита ушли в полицию.
Лаура взглянула с удивлением, но ничего не сказала.
— Где же вы пропадали, сеньора?
— Была в кафе Такубы.
— Все два дня?!
Хосефина принесла «Последние известия». Когда-то она училась в школе и вот сейчас принялась громко читать заголовки: «Сеньора Альдама все еще не найдена»; «Выдвинута версия: подозрительный мужчина с индейскими чертами лица, что преследовал ее от Куицео,— садист»; «Полиция ведет розыск в штатах Мичоакан и Гуанахуато». Сеньора Лаурита вырвала из рук Хосефины газету и с яростью разорвала ее. И ушла к себе. Нача и Хосефина шли следом: не стоило сейчас оставлять хозяйку одну. Они видели: Лаура упала на постель и лежала лицом вверх с широко открытыми глазами и ничего не видя.
Обе они подумали об одном и том же, и об этом они сказали друг другу позже, на кухне: «Похоже, сеньора Лаурита по уши влюблена». Но они еще были в спальне хозяйки, когда пришел сеньор.
— Лаура! — крикнул он. Кинувшись к постели, он крепко обнял жену.— О, любимая! — зарыдал сеньор Пабло.
Сеньора Лаурита была растрогана — несколько секунд.
— Сеньор! — закричала Хосефина.— На сеньоре одежда обгоревшая.
Неодобрительно посмотрела Нача на горничную. Хозяин оглядел одежду и обувь жены.
— Да... И подошвы туфель обуглены! О, любимая, что случилось? Где ты была?!
— В кафе Такубы,— совершенно спокойно ответила сеньора Лаура.
Сеньора Маргарита — руки в боки — подошла к невестке.
— Мы и без тебя знаем, что позавчера ты была там и заказала порцию кокады. А что, что было потом?
— Потом я взяла такси и поехала домой по окружной дороге.
Нача опустила глаза долу. Хосефина раскрыла рот, словно хотела что-то сказать; сеньора Маргарита стояла, кусая губы. А Пабло схватил жену за плечи и с яростью стал ее трясти.
— Перестанешь ты корчить дурочку или нет?! Где ты была два дня?.. Почему не снимаешь обгоревшей одежды?
— Обгоревшей?.. Но он загасил...— вырвалось у сеньоры Лауры.
— Он?! Этот гнусный индеец?..— Пабло снова стал яростно трясти жену.
— Я встретила его, когда выходила из кафе Такубы...— испуганно всхлипнула сеньора Лаурита.
— Никогда и подумать не мог, что ты такая! — сказал сеньор и с силой толкнул жену назад, на постель.
— Скажи хоть, кто он? — попросила сеньора Маргарита медовым голосом.
— Но, Начита, разве я могла сказать им, что это — мой муж? — сказала сеньора Лаура, испрашивая одобрения кухарки.
Нача похвалила хозяйку за благоразумие и вспомнила, что в тот день, встревожившись за сеньору, она решилась сказать:
— Должно быть, индеец из Куицео — колдун.
Тут сеньора Маргарита повернулась к ней — глаза ее так и сверкали — и чуть ли не заорала:
— Колдун?! Лучше скажи — убийца!
Несколько дней сеньоре Лаурите запрещено было выходить из дому. Хозяин приказал сторожить все окна и двери. Они — служанки — постоянно заходили в спальню сеньоры Лауры: лишний раз взглянуть на нее. Нача отказалась доносить хозяину о поведении сеньоры или сообщать о чем-либо странном, что она заметит. Но попробуй-ка заставь молчать Хосефину!
— Сеньор, нынче на рассвете индеец опять стоял под окном,— сообщила горничная однажды утром, внося поднос с завтраком.
Сеньор бросился к окну и вновь обнаружил пятна еще не засохшей крови. Сеньора Лаура заплакала.
— Бедняга!.. О, бедняга!..— повторяла она сквозь слезы.
В тот же день, вечером, сеньор вернулся домой с доктором. После первого визита врач стал приходить каждый вечер.
— Он расспрашивал меня о детстве, об отце, матери. Но я не знала, о чьем детстве, чьем отце и чьей матери хотел бы он знать. Поэтому я говорила с ним о завоевании Мексики. Ты ведь меня понимаешь, верно? — произнесла Лаура, пристально глядя на кастрюли с желтоватым налетом.
— Да, сеньора...— разволновавшись, Начита уставилась на окно, выходящее в сад. Ну и тьма нынче, в двух шагах ничего не разглядеть! Она вспомнила, как сеньор, такой озабоченный, сидел за столом — да он едва ли и притронулся в тот раз к ужину.
— Мама, Лаура попросила доктора принести «Историю» Диаса дель Кастильо [210] говорит, что ей сейчас только это и интересно читать.
Сеньора Маргарита даже вилку уронила.
— Бедный мой мальчик! Жена твоя в уме повредилась!
— Она только и говорит, что о завоевании Великого Теночтитлана [211],— добавил сеньор Пабло, опустив голову.
Врач, сеньора Маргарита и Пабло пришли к выводу, что у Лауры нервная депрессия, вызванная ее затворничеством, и что ей необходимо общение с окружающим миром. С этого дня сеньор стал присылать машину, чтобы жена ездила погулять в парке Чапультепек [212]. Сеньору Лауру сопровождала свекровь; кроме того, шоферу было приказано присматривать за ними обеими. Но и свежий воздух не помогал Лауре. Нача и Хосефина замечали: с каждым днем сеньора возвращается домой все более утомленной. А войдя в спальню, тут же берется за Берналя Диаса — и только тогда лицо ее оживлялось.
Однажды сеньора Маргарита вернулась с прогулки одна в растерянности.
— Эта полоумная сбежала! — еще с порога громко крикнула сеньора Маргарита.
— Выслушай меня, Нача. В парке Чапультепек я села на свою всегдашнюю скамейку и сказала себе: «Он мне этого не простит. Мужчина может простить одно, два, три, четыре предательства, но постоянную измену — нет». От этой мысли мне стало совсем грустно. Было жарко, и Маргарита купила себе ванильное мороженое и уселась в машину. Я почувствовала: я ей так же надоела, как и она мне. Кому понравится, что тебя стерегут?! И я старалась глядеть по сторонам, лишь бы не видеть, как она ест эту свою трубочку и смотрит на меня. Я увидела серые клочья сена, свисающего с ветвей кипарисов [213], и — уж не знаю сама почему — утро для меня стало таким же грустным, как и эти деревья. «Они и я, мы видели одни и те же трагические события»,— сказала я себе. Пустынной дорогой уходило время. И я была как это время — одна на пустынной дороге. Мой двоюродный брат в окно дома видел мою всегдашнюю измену, и теперь он оставил меня одну на этой дороге, устланной тем, чего и не существует. Я вспомнила запах маисовых листьев и мягкий шорох его шагов. Так он приходил — вместе с шелестом сухих листьев, когда февральский ветер несет их над камнями. «Раньше мне и оборачиваться не надо было, я и так знала, что он здесь, смотрит мне в спину, прежде чем появиться передо мной». Так я рассуждала — грустно и долго — и вдруг услышала, как все устремилось к солнцу, как взлетели сухие листья. Спиной я ощутила его дыхание, затем увидела внизу, перед собой, его босые ноги. На одном колене была царапина. Подняла глаза и встретилась с его взглядом. Мы не говорили друг другу ни слова — долго-долго. Из почтения я ждала, что скажет он.