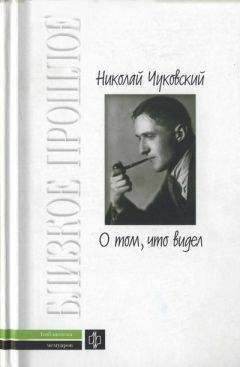Дорогой Коля! Я подал заявление, что хочу вернуться в Москву. Бомбежки я нисколько не боюсь. Оказалось, что я выношу ее весьма хладнокровно — и мне даже дико было смотреть на многих более юных писателей, которые дрожали, как кролики, при всяком взрыве снаряда.
Я бы поехал сейчас, но прихворнул — и ослаб. За последние 2 месяца я потерял 22 кило и хочу сперва поправиться чуть-чуть в каком-нибудь доме отдыха. Путевки есть, но не могу оставить маму, которая превратилась почти в инвалида. У нее было что-то вроде слабого удара, это скоро прошло, теперь она молодцом, но был такой месяц, когда ей пришлось обслуживать Лиду, Люшу, меня, Женю, т. к. Ида уехала, а новой работницы не было. Мама переутомилась, тревога о тебе, тоска по Бобе — и жара — все это истомило ее.
Я решил так: если не поправлюсь в эти две недели, поеду в августе так, как есть, чуть только окончу сказку. Сказка моя кончена, но во второй части хромает композиция, и я бьюсь, как проклятый, над выпрямлением линии.
Звери напали на Айболита.
И поставили злодеи
Девятнадцать батарей.
У двадцатой батареи
Сам разбойник Бармалей.
Он стоит и не шевелится,
В Айболита прямо целится.
Шестьдесят четыре пушки
Он поставил у опушки
И с акулою вдвоем
Схоронился за холмом,
И смеется, и хохочет,
И кривую саблю точит:
«Ну теперь-то Айболит
От меня не убежит».
Отвечает добрый доктор:
«Погоди же ты, зверье».
И скликает добрый доктор
Войско верное свое.
«Вы, кузнечики,
Разведчики,
Побегите по полям
К тем зеленым тополям
И спросите поскорей
У сорок и снегирей,
Где пехота Бегемота,
У реки
Иль у болота,
Чтобы наши журавли
Разбомбить ее могли,
И поставьте у калитки
Дальнобойные зенитки,
Чтобы наглый диверсант
К нам не высадил десант.
Вы, орлицы, партизанки,
Сбейте вражеские танки
И пустите под откос
Бармалеев паровоз…»
и т. д.
Но с жужжанием веселым
Из окошек и дверей
Налетели пчелы, пчелы,
Пчелы, пчелы, пчелы, пчелы
Из окошек и дверей
И давай колоть их жалами,
Словно острыми кинжалами.
Укусили бегемота,
И от боли бегемот,
Рот разинув, как ворота,
Так и грохнулся в болото
И белугою ревет.
А они не унимаются.
Пуще прежнего кусаются.
Испугались носороги,
Побежали по дороге.
И в испуге носорог
Носорогу сел на рог.
А над ними пчелы тучею
Так и жалят, так и мучают.
…………………………
И звенят над ними птенчики,
Словно звонкие бубенчики:
«О, хвала тебе, хвала
Трудовая,
Боевая
Беспощадная пчела!»
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Победа, победа, но враг не разбит.
Злодей Бармалей за рекою стоит.
Он стоит, Бармалей, и позевывает
На цветы луговые поплевывает.
А слюна у него ядовитая.
Где ни плюнет, там змеи и ящерицы.
Он стоит со своими удавами,
Со своими волками кровавыми.
Вкруг него павианы поганые
На траве развалилися пьяные.
Он стоит над веселыми селами,
Над полями стоит он веселыми,
И бормочет бессмысленным голосом:
Истребить! Погубить!
Уничтожить! Убить!
Погубить! Разбомбить!
Ни людей,
Ни детей,
Никого не щадить!
Потом тревога: прилетели вражьи самолеты, истребляющие детей и женщин. В самолетах — бегемоты. Их преследуют журавли:
Над темными равнинами
За ним они летят
И длинными, предлинными
Носами журавлиными
Долбят его, долбят.
Всего его истыкали,
Истыкали, как пиками.
Истыкали, изранили,
Проткнули, протаранили
И все еще долбят его,
Долбят его проклятого.
Долбят, долбят, долбят.
«Так вот тебе! так вот тебе,
Бессовестный пират!
Чтобы не смел расстреливать
Беспомощных ребят!»
И глядите: закружился,
Завертелся самолет
И свалился, и разбился
Стопудовый бегемот.
Вот тебе бессвязные клочки. Написал я больше 1000 строк. Писал и волновался ненавистью к гитлеристам всех мастей и оттенков. Конец мне дался легко: всеобщее ликование, когда Гитлер побежден. Сказка имеет необыкновенный успех (в моем чтении) в частях Красной Армии — но будет ли она иметь успех у Фадеева[776] и Кº, не знаю.
Марине пишу часто. Чуть поправлюсь здоровьем (если поправлюсь) — буду в Москве устраивать твою, мою, ее жизнь. Написал ей о Таточке. У нас две огромные комнаты. Лида выехала от нас: она прошла в члены Союза, ее книжка «Слово предоставляется детям» имеет большой успех, печатается в «Красной нови», в Госиздате (в Москве), она пишет отличный сценарий о детях — вообще на пути к процветанию. С мамой она во вражде, ко мне охладела, и прекрасно чувствует себя в стороне от нас.
Поэтому у нас есть помещение и для Марины и для Таты. Денег маловато, но сказка выручит. Это я говорю на всякий случай. А покуда мои установки — Москва.
Хочется писать еще и еще, но торопят. Надо бежать на почту.
Целую тебя, друг мой.
Мама пишет отдельно.
Твой отец.
184. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому
13 июля 1942 г. Новая Ладога
Новая Ладога 13 июля 1942.
Папа, папа, милый, родной мой! Чем старше я становлюсь, тем больше я люблю тебя и горжусь тобою. Вот бы посмотреть на тебя хоть часок!
Ты мне пишешь, что будешь в июле в Москве. Увы, в июле я в Москве не буду, и пустят ли меня позже — сомнительно. Я вот просился к Марине в отпуск на несколько дней — отказали. Не любят меня — я вот уже стар, а все не умею быть любимым. Вот от чего мне так жестко достается.
Я написал книгу о летчиках. Это фронтовые записи и, кажется мне, хорошие, но именно поэтому они кажутся здесь грешными и, идя по инстанциям, терпят неуспех. Писать так дурно, как требуется, я не умею. Я всегда добивался антигазетности, сжатости, внутренней, а не внешней эмоциональности, а хотят от меня как раз противоположного, чего я просто не умею. Вот отчего я здесь самый последний.
Когда я узнаю, где ты, в Москве или в Ташкенте, я пришлю тебе рукопись. Устрой ее, где знаешь. Я потерял все издательские связи. Ты пишешь, что Скосырев послал мне телеграмму. Телеграммы от него я не получил и кто такой Скосырев — не знаю. Был Скосырев — писатель в Москве. Это он? Чем он заведует? Где он? Есть ли в Москве «Советский писатель»? А Детиздат? Пиши мне, телеграфируй.
Ты мне пишешь, что переезжаешь в Москву не ради себя, а ради меня. А я хотел бы, чтобы ты переехал ради себя. И не для того, чтобы быть там на виду — не до виду сейчас, — а оттого, что я был бы за вас спокойнее — поверь мне.
Если ты действительно переедешь в Москву, — возьми, умоляю, туда Марину и моих детей. Марина не только не будет тебе в тягость, а поможет и тебе, и маме. Если сам собираешься жить в городе — посели их в Переделкине. Им машина не нужна.
Получил от Лиды письмо с двухмесячным опозданием — не столько по вине почты, сколько по вине своих переездов. Она просит, чтобы я поглядел за ее квартирой. Не думаю, чтобы у нее сохранилось хоть что-нибудь из вещей — таких чудес там не бывает. Если мне суждено будет когда-нибудь снова побывать на Загородном, я непременно зайду и проведаю. Я сам ей на днях напишу. Я рад, что ей лучше. Привет ей и маме. Я так часто о них думаю!
Отчего ты не прислал мне свою сказку? Она доставила бы мне радость.
Оставили ли вы кого-нибудь у себя в московской квартире на время отъезда в Ташкент? Я хотел бы послать туда посылкой кое-что, сохранившееся от моего архива — здесь держать негде, таскать с собой тяжело, а квартиры у меня нет. Пиши. Телеграфируй.
Твой Коля.
Ох, советую — поезжайте домой.
Ты спрашиваешь — где за меня хлопотать? В Главном Политическом Управлении Военно-Морского Флота.
Если уж надо служить, я хотел бы служить в большой центральной военной газете — в «Красной Звезде», например.
185. Н. К. Чуковский — К. И. Чуковскому
27 июля 1942 г. Новая Ладога
Милый папа, почему ты мне не пишешь? Уже почти два месяца назад ты написал мне открытку, что в июле будешь в Москве и возьмешь туда Марину. И с тех пор — ни слова. Я послал маме телеграмму — она мне не ответила. Сейчас я кончил книгу, хочу послать тебе рукопись — не знаю куда. Марина, Тата, Гуля пропадают, им необходимо попасть в Москву, а я беспомощен сейчас, бессилен, и мне не к кому обратиться, кроме как к тебе. Ведь у тебя в Москве квартира и дом — неужели их никак нельзя туда устроить. Ну, сделай это ради меня, пока я не уехал вслед за Бобой. Кого мне просить, к кому мне обращаться в беде, как не к тебе? А ты мне не пишешь по месяцам и Марине не отвечаешь на письма. Я не понимаю, почему ты в Ташкенте, но если у тебя есть причины, которых я не знаю, так съезди в Москву на время, устрой там моих. Я понимаю, что это хлопотно, но нельзя же, чтобы все пропали.