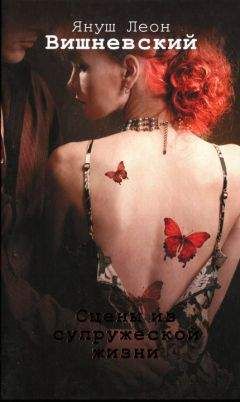Или возьмем, к примеру, американского кулинара Ричарда Олни. Как и миссис Дэвид, он был поборником добра, тонким и глубоким писателем, умевшим ввести пищу в широкий культурный контекст. В некрологе “Таймс” было справедливо отмечено, что “ ‘Простая французская пища’ Олни относится к тем немногим кулинарным книгам, которые должны быть в каждом доме”. Кроме того, Олни был блюстителем высочайших стандартов. Много лет назад меня в качестве ресторанного критика пригласили на день французской кухни в отель “Дорчестер”. Это был банкет человек на двести, приготовленный бригадой поваров из ресторанов с мишленовскими звездами. Среди гостей был и Олни, и позже мне рассказывали, что, когда официант налил ему бокал красного вина, Олни лишь пригубил его и тут же отправил назад. Не потому, что оно отдавало пробкой, а потому, что было на пару градусов теплее, чем следовало.
“Простая французская пища”. Будьте бдительны: первое из трех слов названия — это ловушка, в которую попадаются только последние болваны. На первых шести страницах Олни рассуждает о простоте и в конце концов приходит к выводу, что “простота — дело сложное”. Лозунг современного человека: “Если пища не проста, то она не хороша”. Олни прибегает к инверсии: “Если пища не хороша, значит — она не проста”. Согласно этому утверждению все, от деревенской еды до изысканной кухни, должно считаться простым. Речь идет не о простоте приготовления. А о “чистоте результата”, что (как вы уже, наверное, догадались) может потребовать немалых усилий.
Издатель “Простой французской пищи” злонамеренно выпустил книгу в клееном, а не прошитом переплете, поэтому те страницы, к которым обращаешься регулярно, все время выпадают. В моем случае это рецепты цветной капусты в сухарях, жареных кабачков и бараньей ноги в маринаде. Я действительно выбрал наипростейшие блюда.
Что легко объяснимо. Я, как и многие, делаю в своих поваренных книгах пометки — ставлю галочки, крестики, вопросительные и восклицательные знаки, записываю, как лучше поступить в следующий раз. В некоторых случаях следующий раз исключен. Вот как я отрецензировал предложенное Олни суфле с кабачками (заранее прошу извинить за стиль): “Этот ужин на двоих я готовил четыре часа. Суфле не поднялось, поэтому утопало в соусе, и с виду это была охренительная дрянь. Но охренительно вкусная!” Главной моей ошибкой было то, что у меня не нашлось формы для саварена. Не нашлось? Точнее сказать, я и не подозревал о ее существовании. Там, где Олни упоминает о сем предмете, я приписал: “Где в этой идиотской книге объясняется, что такое ‘саварен’?”
Как вы понимаете, приготовление суфле с кабачками привело меня в полное замешательство. Но нет, формы для саварена я покупать не стал. А вернулся к полюбившейся мне цветной капусте в сухарях. Это история о том, как полезно умерять свои амбиции, но главным образом — об отношении к поражению. И здесь пути кулинаров-любителей, а в особенности кулинаров-педантов расходятся с путями господ Блюменталя и Олни и госпожи Дэвид. Вовсе не хочу сказать, что эти асы не признают поражений. Элизабет Дэвид, в частности, пишет: “Загубить можно любое блюдо. От этого никто не застрахован”. Но она наверняка согласилась бы с Ричардом Олни, который заявляет: “В неудаче нет ничего позорного. Провал порой куда поучительнее успеха”.
В теории я с этим согласен. Но на практике большинство дилетантов считает провал именно что позором, и переубедить их практически невозможно. Поэтому мы, дилетанты, всегда стараемся избежать неудачи, и если какое-то блюдо не получается, мы за него больше не беремся. Никогда. Это наш принцип естественного отбора. Самый — в обычном смысле этого слова — простой выход.
В багровых тонахЛожная этимология порой интереснее научно обоснованной. Отличным примером тому служит случай с “Mangel-Wurzel”. Слово это немецкое и первоначально имело такой вид: “Mangold-Wurzel” — кормовая свекла, буквально “корень свеклы”. Но неграмотные немецкие крестьяне, когда слышали это слово, понимали его как “Mangel-Wurzel”, то есть “корень нищеты”. Что по-своему логично, ведь люди ели такие корни лишь тогда, когда больше есть было нечего и в мерзлой земле они могли найти только это. Англичане заимствовали немецкое слово уже в искаженной фонетической форме — “Mangel-Wurzel”. Французы же, всегда склонные оберегать свой язык от заимствований, эту искаженную форму еще и перевели: “racine de disette”, “корень нищеты”, — зафиксировав таким образом в своем языке ложную этимологию.
“Корень нищеты”... Французы к корнеплодам необъективны и относятся к ним с обычным своим высокомерием. Турнепс они превозносят (по-моему, так чересчур), а вот француза, который со знанием дела употреблял бы в пищу пастернак, я не встречал. Одна француженка недавно мне призналась, что никогда не пробовала топинамбур, не говоря уж о брюкве, но слыхала, что во время войны с голоду люди ели и это. Подтверждение такому наблюдению вы найдете в книге Ричарда Олни “Простая французская пища”, где есть пара рецептов с турнепсом, но нет ни одного с топинамбуром, брюквой или свеклой. Элизабет Дэвид во “Французской провинциальной кухне” вскользь упоминает, что пастернак “используют в малых количествах, чтобы придать аромат овощным рагу и супам”.
Могу предположить, что дело здесь в фонетике. Английское “swede” (брюква) звучит куда съедобнее, чем французское “rutabaga”, которое в буквальном смысле вязнет в зубах. Англичане называют земляную грушу иерусалимским артишоком, а во французском “le topinambour”, похожем на слово “тамбурин”, слышится барабанная дробь и намек на оглушительные процессы, происходящие в кишечнике после употребления сего овоща. Раз уж мы говорим о народной этимологии, отмечу, что английское “иерусалимский” не имеет отношения к земле обетованной, а пошло от неправильно расслышанного французского girasol, то есть подсолнечник — именно его и напоминает ботва топинамбура.
Помню, во время первого путешествия по Франции я приходил в недоумение от дорожного знака, часто встречавшегося в сельских районах: в красном треугольнике было написано одно слово — BETTERAVES[40]. Почему французские фермеры полагали, что уборка и транспортировка этого чудесного овоща опасна для дорожного движения? По-видимому, эти знаки действительно имели отношение к свекле, но даже если и так, откуда такое презрение, за что несчастные betteraves приравняли к несъедобным gravillons, chutes des pierres и chaussée déformée[41]?
Впрочем, должен заметить, что у свеклы было немало взлетов и падений. Эдуард де Помиан отмечает, что Орибазий, придворный врач Юлиана Отступника, отзывался о ней крайне неодобрительно. Как-то раз я упомянул об этом в электронном письме специалисту по Аристотелю Джонатану Барнсу[42], и он ответил, что “Орибазий по большей части переписывал Галена”[43]. Хорошо, уточняю: о свекле крайне неодобрительно отзывался Гален. Он считал, что свеклу, чтобы от нее был хоть какой-то толк, нужно долго варить, и похвалы его весьма скупы: “Лишь должным образом сваренная свекла может соответствовать по питательности прочим корнеплодам”. А также: “Как слабительное свекла не принесет ни пользы, ни вреда”.
В Англии свекла появилась в XVII веке, тогда она считалась сладостью и использовалась весьма широко; в XVIII веке был даже рецепт “красного печенья на свекольном соке”. Однако впоследствии проявилась врожденная склонность англичан к пуританству: если овощ по своей природе сладок и приятен на вкус, нужно сделать его мерзким и кислым. Миссис Битон предлагает всего два способа приготовления свеклы, которую, по ее мнению, следует либо мариновать, либо варить; впрочем, она еще цитирует совершенно неаппетитный рецепт от доктора Лайона Плейфэра: ржаной хлеб, где для приготовления теста следует смешать в равных количествах тертую свеклу и муку. С теми, кто продолжал упорствовать в своей любви к свекле, боролись еще более изощренными методами. Некий человек из Олдема написал мне, что его дед даже в руки свеклу не брал, поскольку во времена его молодости ее сажали на могилах. И с тех пор свекла вызывала у него исключительно мрачные ассоциации.
Многие выросшие школьники по сию пору с отвращением вспоминают мерзкие кружочки свеклы, которыми в школьных столовых почему-то накрывали вкуснейший колбасный фарш. Для меня свекла навеки связана с бабушкиной вилкой для маринада — этим двузубым орудием подцеплялось то, что мне в детстве казалось совершенно несъедобным. У орудия имелся еще и поршень, при помощи которого подцепленное снималось с зубцов, что свидетельствовало об особой опасности маринованных лука, огурцов и свеклы: было очевидно, что ни один здравомыслящий человек не пожелал бы взять эту гадость в руки.
В те времена в масле обжаривали только картошку, теперь же нам предлагается ассорти из жареных овощей, и многие возят вилкой по тарелке, отодвигая пастернак и сельдерей, и целятся именно в царственного пурпура ломтики. Свеклу тогда варили в алюминиевых кастрюлях, причем ботву старались отрывать, а не срезать, чтобы свекла меньше истекала кровавым соком. Теперь же свеклу запекают в духовке, что позволяет свести кровотечение к минимуму. Бывало, зимними вечерами к столу подавали борщ, теперь же это может быть что угодно — вплоть до замысловатого супа-пюре из свеклы со сметаной и чесноком по рецепту Саймона Хопкинсона. В ресторанах почти в каждом зеленом салате вы обнаружите несколько листочков с багровыми прожилками. В меню имеются свекла в сухарях и пироги со свеклой. Позволю себе возразить Галену, утверждавшему, что недоваренная свекла вызывает “скопление газов и рези в желудке”: есть рецепт ризотто со свеклой, где половину тертой сырой свеклы выкладывают на сковороду сразу, а половину добавляют под конец; у меня это блюдо всегда пользуется успехом, и никто из гостей коликами не страдает.