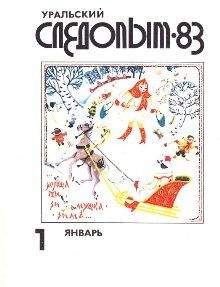Однажды Тихомиров заехал к Зборомирскому. В грязноватой комнате на виду валялся молот с перебитой ручкой, и пахло жареным мясом, но мясом не совсем обычным: сквозь синеватый чад резко пробивался сладковато-муторный дух грязной паленой шерсти, и еще чего-то, уж очень гадкого, гнездящегося в затхлых щелях и выгребных ямах. К горлу Левушки подкатилась тошнота. Но хозяин глядел молодцом, упруго ходил вокруг стола, словно готовясь совершить нечто знаменательное. Наконец, замер над тарелкой.
— Знаешь, Тихомиров, — проговорил он так, точно звал друга вступить в тайную организацию, — я давно задавался вопросом: а отчего не едят мышей? Я вчера поймал мышь, сжарил и съел. — Зборомирский расхохотался, точно помешанный, широко раскрыв губастый рот.
Левушка с отвращением посмотрел на его язык; ему показалось, что изо рта приятеля еще торчали хрящи вонючей твари.
— Нет, Тихомиров, — погрозил липким пальцем Зборомирский. — Не-е-ет! Читая Лассаля или нашего. Этого. Сопливого враля Флеровского революционером не станешь! «Азбука социальных наук» ему. Слыхал?
— Знаю. — зачем-то соврал еще не пришедший в себя Левушка
— А у меня другая азбука! Я с точностью понял одно, Тихомиров: бунт — это крайность, тут уж надобно кадык распускать. Революция — это когда переступаешь через привычное. Ну и какой ты революционер, коли мышь съесть не можешь? То есть, переступить. Всякое большое дело с малого начинается. Такая азбука: поймай мышку да сжарь. Тогда и о революции поговорим.
О революции Левушке говорить не хотелось. Особенно в этой смрадной комнате. Да и чего было говорить. Еще с гимназии он знал несомненно: мир развивается революциями, и по-другому развиваться не может. Отрицать это — все равно, что отрицать вращение Земли вокруг Солнца. Нравится или нет, да куда денешься?
Но это в гимназии, а раньше? Да нет же, нет: в семье он был очень набожным мальчиком, молился со слезами, прося Бога на херувимской о своих детских нуждах, и искренне верил, что
Господь все устроит и разрешит. Отец говорил с ним о России, и он любил Россию — самую лучшую, самую большую страну на свете. Отец говорил о Государе, и Левушка любил Государя, всемогущего и всевысочайшего. Но почему, за что — он понимал смутно; отец об этом не говорил, монархизм Тихомирова- старшего был негромким, само собой разумеющимся, каким- то обыкновенным. Правда, на загородной прогулке, остановившись у раскидистого дуба-великана, отец мог спокойно бросить: вот, мол, чудесное дерево, дюжину повстанцев можно повесить. При этом у него в добрых друзьях ходили поляки (были они и на прогулке), но когда речь заходила о целостности Империи, которую все эти подпольные варшавские жонды хотели разрушить, отец становился неумолимым и жестким.
Но то, что Левушка узнал в гимназии — было необыкновенным. Демократ Герцен выглядел необыкновеннее консерватора Каткова. Задиристый Писарев поражал энергическими взрывами своих статей. (О чем они — это уж десятое дело!). Поразительно: Левушка читал их в «Русском слове», которое нашел в шкафах родного дяди Андрея Петровича Савицкого, монархиста, боготворившего Каткова. Потом в руки попали переводы Минье, Карлейли, Гарнье-Пажеса. И свои — Добролюбов, Чернышевский... Голова пошла кругом. К тому же и историки (милейшие, образованные люди) учили: республика — это прогресс, монархия — разумеется, реакция.
Так кто же прав, Циммерман с его «Миром до сотворения человека» или ветхозаветный Моисей? Бог или. Или керченский нигилист Караяни? Правда, вскоре этот ниспровергатель изрядно подмочил свою репутацию: обворовал не то казначейство, не то кассу и скрылся с фальшивым паспортом за границу.
Но почему после выстрела Каракозова плакал только один седенький учитель Рещиков? Возможно, лишь он просил у Бога прощения за то, что русский человек хотел убить русского Государя. Старик каялся в то время, как вокруг служили благодарственные молебны. Левушка чувствовал: что-то здесь не так — в день траура благодарить Бога. А это траур — учитель знал: православный по рождению юноша стреляет в Помазанника. Что-то случилось с Россией. Какая-то страшная болезнь вползала в ее имперское сердце. Потому что в семье скромного керченского чиновника Феоктистова рассуждали за вечерним чаем:
— Вот не вышло у Каракозова, так все его и ругают.
— А вышло бы вдруг, то и благодарили бы.
И Левушка удивился, но не возмутился; душа замерла, словно в парке на качелях: интересно-то как! Потом посмеивались над костромским картузником Комиссаровым: будто бы он спьяна толкнул руку цареубийцы, тот и дал маху. А еще позже — над потомственным дворянством, которое пожаловали мещанину за спасение Государя.
Старого учителя Рещикова Тигрыч вспомнил через много лет в Париже, когда доктор ставил мушки умирающему от менингита Сашеньке, сыну. Был апрель 1886-го. Ночной ветер, завывая в каминной трубе, насквозь продувал безлюдную rue Daru. «Мы должны сделать все, пока он жив.» — говорил врач, и Тихомиров, нелепо тряся головой, соглашался: «Мы должны сделать все. Все, я больше не могу!»
За тонкой стеной рыдала жена. После мушек и компресса мальчик затих, уснул. Тигрыч поправил сбитое одеяло и почти упал на стул; отупело уставился в темный угол полупустой комнаты. Мрак багрово дрогнул, заклубился, почему-то превращаясь в сухонького керченского учителя Рещикова, чью легкую фигурку, должно быть, занес сюда волглый парижский ветер. Тигрыч прикрыл глаза, чтобы лучше рассмотреть Николая Ивановича. А тот молчал. И только слезы капали на золотые пуговицы его вицмундира. Одна слезинка, сияя все ярче, вдруг сорвалась и полетела к лицу Тихомирова. Он испугался, очнулся.
Француз-врач стоял в дверях, терпеливо ожидая гонорара.
Глава шестая
Москва, Москва. Он мало что запомнил, пока они с братом Володей неслись с вокзала на Спиридоновку. Разве что огненный куст боярышника за чьим-то забором да московский выговор извозчика: «Перьвый. Перьвый поворот, барин!»
Устроился на Стрелке у кухмистера Моисея Ивановича Ульянова. Комната с зеленоватым, как дома, абажуром, уютная и светлая. Радовало и то, что за умеренную приплату можно было столоваться прямо у хозяина. Постояльцев все больше потчевали гурьевскими кашами и солянками, но по воскресеньям кухарка готовила щи с головизной, котлеты с куриной кнелью и грибами, подавали и соусы с эстрагоном, а на сладкое — мусс клюквенный с мороженым.
В университете Левушка набросился на учебу — с интересом, даже с пылом. Не пропускал ни одной лекции, на практических занятиях смело резал трупы, пытался делать препараты, хотя это и не позволялось студентам-первокурсни- кам. Все тот же Зборомирский свел его со сторожем мертвецкой, который за полтинник продал Тихомирову тельце ребенка, и теперь вечерами он был занят: кромсал трупик, добирался до мускулов, отгоняя брезгливо-пугливые мыслишки, укрепляя дух базаровским — работать неутомимо, повиноваться непосредственному влечению, действовать по верному расчету.
Самостоятельно заспиртовав ладошку безродного младенца в какой-то научной банке, Левушка показал ее сокурсникам и тут же почувствовал сладкое бремя известности; о нем заговорили, показывали друг другу, даже старшие студенты на равных пожимали ему руку, зазывая в свои компании с настоящими модистками. От этого сладко ныло под ложечкой.
На одной из лекций профессор Зернов заметил, что между весом человеческого мозга и умственными способностями нет пропорциональной зависимости.
— Что скажете, Тихомиров? — спросил сидевший рядом Николай Морозов.
— Думаю, Зернов говорит тенденциозно.— важно произнес Левушка. — Немецкий зоолог Карл Фогт.
— Именно! — жарко прошептал Морозов. — Здоровый материализм Фогта легко опровергает это утверждение.
Они сошлись на том, что профессор Зернов заурядный реакционер. И перестали посещать его лекции.
Хозяин Моисей Иванович был человеком строгим: порядок чтил. Когда что не так, он и полицию мог позвать. Например, к соседу и однокашнику Левушки студенту Шульге, истинному геркулесу и забияке, чей прадед, говорили, выкрал из султанского гарема первую красавицу. Шульга мог выпить за один присест двадцать бутылок пива, да и водки — сколько поставят. В минувшую субботу, похоже, этот медвежеватый потомок запорожца принял на широкую грудь не то пива перебродившего, не то злого черкизовского горлодера, поскольку явился на Стрелку пьян-распьян, полночи плясал в комнате камаринскую, лужено выкрикивая: «Мамзель, пообождите, куда вы так спешите? Вы, может быть, хотите.», а полночи отбивался от полиции, которую вызвал разгневанный хозяин. Тот был неумолим — выгнал Шульгу вон.
Но совершенно другим делался Моисей Иванович, когда к нему приезжал сын Костик, студент Петровской академии, важный малый в синих очках, смазных сапогах и котомкой за костистыми плечами; из котомки всегда торчали грязнозеленые перья лука и потертые корешки книг. Костик появлялся всегда неожиданно, появлялся не один — в компании таких же нечесаных юношей. Гости вели себя вполне по-хозяйски — топали по комнатам в обуви, картузы и шляпы кидали куда попало, оглушительно хохотали, переговаривались резко и громко. Моисей Иванович делал брови строгой «птичкой», и буфетчик сам, хотя и без желания, тащил в залу самовар, ворча под стариковское шарканье подошв: «Энти. Глисты-неглисты пожаловали. Обереги, Царица небесная!» Нигилисты, стало быть.