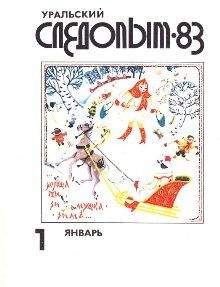— Юлиан, зачем ты?.. — с нежным негодованием повернулась Надежда Сергеевна к молодому человеку.
— Вздор! — не глядя на нее, крикнул Юлиан. — Нечаев верит в скорую народную революцию! Всесокрушающую. А кто расчистит ей путь? Молодость, молодежь наша. Он и призывал.
— Юлиан. — влюблено выдохнула госпожа Лашкевич.
— Но ваш Нечаев, — подскочил Рудковкий, — постыдно бежал в Швейцарию. А в это время суд приговорил его товарищей к каторге! Бесчестный человек. Честным, открытым путем он не смог бы навербовать приверженцев.
«Вот тебе и горький пьяница!» — удивился Тихомиров. Впоследствии он не раз поражался: гуляет студенчество, напиваются до положения риз юные вертопрахи, в библиотеку заглядывают, чтоб только отметиться: книг не брали, а после вдруг — как гром среди ясного неба! — впутываются в какое-нибудь «дело», устраивают бестолковую демонстрацию, что и мизинца не стоит; и ведь, головы еловые, ставят на карту судьбу, карьеру, о которой, казалось, всегда лишь и пеклись. Чудеса, да и только.
— Хочу успокоить вас, — горько улыбнулся Юлиан. — Во вчерашних «Московских ведомостях» сообщили: Нечаев выдан России как уголовный преступник.
Над столом нависла гнетущая тишина.
— Давайте-ка лучше выпьем, господа! — вскочил с бокалом Швембергер. — Тем паче, как говаривал великий узник Бастилии Мишель Монтень, плоды смуты никогда не достаются тому, кто ее вызвал; он только всколыхнул и замутил воду, а ловить рыбу будут уже другие.
— За других! Ура! — облегченно зашумело застолье. — Но будем помнить, господа: мир развивается революциями!
— Одно смущает, — негромко, точно про себя, сказал юноша с чуть заметными усиками, — идея революции все же намного моложе идеи существующего порядка. То, что вырабатывалось веками.
На юношу зашикали, и он смущенно умолк.
Снова стали пить, чокаться, шуметь, целоваться; при этом курсистки пили наравне со студентами, курили, выпуская дым к розовому абажуру, рассуждая между папиросами о женских правах, о равенстве полов. Потом по кругу пошли карточки этих же курсисток в мужских костюмах. Потом ослабевший Рудковский положил всклокоченную голову на колени одной из барышень да так и уснул.
— Господа! — сверкнул зелеными глазами Юлиан. — Все вздор. В мире нарождается новая религия. Да! Христианство разрывает нас на две половины — дух и тело. Но наука. Да, рацио. Наука доказывает: человек един и целостен! Христианство заставляет нас бороться с плотью и этим унижает тело.
Надежда Сергеевна не сводила с Юлиана восторженновлюбленных глаз. Левушка даже испуганно покосился на дверь: если бы сейчас вошел отсталый украинофил Лашкевич, то он бы в припадке ревности непременно убил бы свою передовую супругу.
— Пора, давно пора оправдать тело, — продолжал красавец. —Дух — это оно и есть! В теле нет и быть не может греховных побуждений. Оно свято! Следует найти мужество и безоглядно подчиниться ему, а не бороться, нет! Дайте же свободно проявляться всем его стремлениям, и тогда. И тогда они сольются в братской гармонии желаний всего человечества!
Госпожа Лашкевич просияла, громко зааплодировала. Но Юлиан даже и не взглянул на нее. Он уже что-то шептал на ушко своей соседке — хорошенькой курсистке, и от этого жаркого шепота белокурая прядь барышни чуть заметно трепетала.
«Нет, все не то. Не то.» — тоскливо стучало в висках, когда Левушка спешил к себе в Долгоруковский. Он снова ушел в затвор, погрузился в свое одиночество. Эх, сейчас бы к милым берегам, к цемесским скалам, где всегда упруго дует ветер и немолчно кипит у камней беспокойное море! Там дом, где молится под мерцающими образами мама, куда возвращается из госпиталя отец, спокойный и сильный; никогда не повысит голоса, но как надменно твердеет его всегда добродушное лицо, как отчужденно леденеют глаза, если рядом сподличали или солгали. Нет, лучше бы кричал.
Интересно, а что бы отец сказал о Юлиане, о новой религии? Хотя яснее ясного — назвал бы зеленоглазого красавца фатом, альфонсиком с паутиной в башке. А вокруг твердят: неприлично не быть передовым. неприлично защищать монархию. Прилично же — верить в республику, социализм, хотя даже если и не понимаешь, что это такое. Существующее — скверно, душно, а грядущее — прекрасно и свежо. Правда, наступит все это еще не скоро.
Отец всегда поощрял его первенство. В гимназии—Левуш- ка один из лучших, даже самолюбивому Желябову помог на экзамене. И в университете — тоже, особенно в начале курса. А теперь что же? Теперь, когда уже произнесено: критически мыслящая личность имеет право (!) свои субъективные идеалы ставить во главу угла при изучении истории. Таких личностей — раз, два и обчелся. Люди в основном живут либо в сонной праздности, либо в бесконечном труде, обеспечивающим праздность немногих. Мысль спит. Но вот просыпается студенчество. Просыпается после «нечаевщины». Создаются коммуны, кассы, общие библиотеки, кухмистерские. Ярко, притягательно, ново. Неужели — отстраниться, отсидеться в затворе, даже не попытаться понять. О чем шумим, братцы?
Где же здоровое честолюбие? Что скажешь, отец?
Часы скрипуче пробили полночь; дрема обступила засыпающего теплой толчеей черноморских волн. И сквозь этот плеск Левушка уловил чуть слышный голос матери: «И ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных...»
Глава седьмая
В доме Риттиха, что на Малой Никитской, начальник Московского губернского охранного отделения генерал- майор Слезкин, как всегда, с утра просматривал донесения агентов. Агент Авгур. Иван Львович глотнул чая, усмехнулся: и что за кличка? придумают же. Авгуры — да это ведь римские жрецы-птицегадатели, их шарлатанство и обман известны со времен Цицерона. Такого наплетут, слова в простоте не скажут — мудрено все, непонятно, тайной покрыто. А что наш Авгур? Да нет, ясно излагает:
«Между некоторыми студентами Московского универси- тета, собирающимися у себя на квартирах под предлогом научных занятий, проводится идея основать «тайное юридическое общество», цель которого заключалась бы единственно лишь в распространении всевозможными способами в массах народа образования социального, при посредстве которого и создавалась бы почва общественного мнения в духе направления чисто социального.»
Начальник охранного отделения задумался: социального? Читай: социалистического. И как это у них ловко выходит: как будто знание, науку рекомендуют — благое дело. А где эту науку прикажете искать? Разумеется, в книгах. И что же за книги подсовывают? А книги все, как на подбор, революционные. Хитро, тонко придумано: дескать, господа хорошие, наука и революция говорят одно и то же. Не открыто революцию советуют, а только науку, и прямехонько приводят к революции. Мудрецы! Как их. Радикалы!
Нет, не по нутру вся эта софистика генералу. Ему с молодых лет ближе ясное и понятное дело. Почтовое, например. Когда-то ему, еще полковнику корпуса жандармов, предложили контракт «на содержание станций и лошадей для отправления почтовой гоньбы между Орлом и Ельцом». Тут как раз новый тракт проложили — от Орла до Ливен, да вот незадача: Малоархангельск остался в стороне. Несправедливости Слезкин допустить не мог — и сохранил не только старую станцию, но и новую построил, в Сорочьих Кустах. И губернии польза, и ему неплохо: за две почтовые станции орловское земство обязалось платить 1707 рублей 19 копеек ежегодно.
Любил песни — протяжные, ямщицкие. А ямщиками служили все больше его редкинские крестьяне, поскольку был Иван Львович еще и орловским помещиком — весьма добродушным и щедрым. Еще до отмены крепостного права отпустил часть крепостных, тех, что достались ему по купчей от надворного советника Булгакова, а после заменил обычные визиты на праздник Рождества Христова пожертвованием в пользу детского приюта в Орле.
Но в Орле жил дворянин Петр Зайчневский, и это крайне раздражало генерала Слезкина. Этот краснобай, якобинец, заслуживший «мученический венец» недолгой сибирской каторгой на заводах, был большой бонвиван; когда он говорил, глаза женщин увлажнялись от восторга. Особенно потрясала нежные сердца его знаменитая прокламация «Молодая Россия», где Зайчневский превозносил французских якобинцев, звал «в топоры!», дабы истребить императорскую фамилию, мечтал о красном республиканском знамени социальной и демократической России (вон когда еще!), о государственном перевороте путем заговора и захвата власти революционной партией. Всем этим он перепугал Герцена, насторожил Чернышевского, даже анархиста Бакунина оттолкнул. Герцен воскликнул: «Террор революции с своей грозной обстановкой и эшафотами нравится юношам так, как террор сказок со своими чародеями и чудовищами нравится детям.».
Зловещее совпадение: в дни выхода прокламации столицу Империи охватили пожары. Достоевский буквально ворвался в квартиру к Чернышевскому, прося, нет, требуя заявить порицание опасной и безрассудной выходке. На бледном лице писателя, казалось, пляшут огненные отсветы.