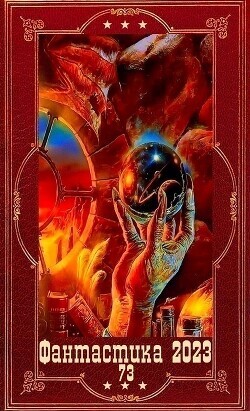вином — распознание чужого нрава, мыслей и чувств.Страсти улика — вино. Никагора, скрывавшего долго Чувства свои, за столом выдали чаши вина: Он прослезился, потупил глаза и поник головою, И на висках у него не удержался венок [799].
Возвышенная цель — важнейшая в утопических мечтах Платона, но не в действительности — воспитание. Опьянение учит основополагающей добродетели — умеренности.
Мы установим закон, — говорит Афинянин в «Законах», — чтобы дети до восемнадцати лет совершенно не вкушали вина… не надо ни в теле, ни в душе к огню добавлять огонь, прежде чем человек не достигнет того возраста, когда можно приняться за труд. Должно остерегаться неистовства, свойственного молодым людям. Более старшим, 30-летним, можно уже вкушать вино, но умеренно, ибо молодой человек должен совершенно воздерживаться от пьянства и обильного употребления вина. Достигшие сорока лет могут пировать на сисситиях [800], призывая как остальных богов, так в особенности и Диониса на священные празднества и развлечения стариков. Ведь Дионис даровал людям вино как лекарство от угрюмой старости, и мы снова молодеем и забываем наше скверное настроение, жесткий наш нрав смягчается, точно железо, положенное в огонь, и потому делается более гибким [801].
Если симпосиарх объявлял философский симпосий, пирующие, по идее, обязаны были соблюдать умеренность в винопитии. Но осуществить это благое намерение вполне удавалось только таким философски настроенным симпосиастам, у которых хватало ума, поняв, что их речи недоступны собутыльникам, перестроиться и снисходительно принять их легкомысленное времяпрепровождение: ведь философствовать можно и в молчании, и в игре, и даже в насмешках, — писал Плутарх. «Беседа должна быть столь же общим достоянием пирующих, как и вино» [802]. Как у Анакреона:
Мил мне скромный собеседник, Кто, дары царицы Книда С даром муз соединяя, На пиру беспечно весел [803].
Но самая желанная цель совместного винопития — развлечения. Аристотель подчеркивал самоценность развлечений. «Их избирают не ради других благ: от них ведь, скорее, бывает вред, а не польза» [804]. Симпосии разнообразны, игривы: «и́гры на ловкость и умение держать равновесие, игры на смекалку и на память, словесные шутки» [805]. Но никакие затеи не могли сравниться с многообразными наслаждениями души и тела, которыми одаривали своих друзей приглашенные на симпосий гетеры. Их присутствие давало художникам ярчайшие впечатления. Поэтому по вазописным изображениям симпосиев, которые стали появляться во множестве с VI века до н. э., складывается впечатление, возможно превратное, что апофеозом симпосиев были не философские откровения истин, а оргии.
Ил. 364. «Гробница Ныряльщика». 480–470 гг. до н. э. Фрески. Пестум, Национальный музей
Из созданных между 700 и 400 годами до н. э. эллинских фресок с изображениями людей сохранилась полностью только роспись гробницы молодого человека, раскопанной археологами в 1968 году на небольшом некрополе за стеной древней Посейдонии. Сложенная из четырех плит продолговатая прямоугольная камера длиной чуть больше двух метров, шириной около метра и высотой восемьдесят сантиметров была накрыта плитой, на внутренней стороне которой покойник созерцал юношу, кинувшегося с большой высоты в воду. Отсюда название «Гробница Ныряльщика». Рядом с покойником лежал лекиф примерно 480 года до н. э. и панцирь черепахи, оставшийся от лиры. На продольных и торцовых стенках изображены сцены симпосия. Ныне росписи экспонируются в местном музее (ил. 364).
Что побудило заказчиков создать вокруг умершего столь жизнерадостную атмосферу? Восприимчивость эллинских колонистов Посейдонии к этрусским представлениям о загробной жизни? Этрусское происхождение Ныряльщика? Скелет сохранился так плохо, что ответить на этот вопрос невозможно. Как бы то ни было, очевидно, что местным художникам (различают две манеры) велели ориентироваться на изображения симпосиев на новейших вазах, доставленных в Посейдонию из Аттики. В остальном они были самостоятельны. Не подражая вазописи буквально, они создали между 480 и 470 годами до н. э. картины пиршеств, которые сами по себе, если не иметь в виду уникальность их размещения на стенках погребальной камеры и сюжета на потолке, не содержат ничего заупокойного [806].
На длинных стенках — северной и южной — изображены по три клина, на которых возлежат, облокотившись на подушки, пирующие: слева — клин с одиноким симпосиастом, за ним еще два клина с парами. Стало быть, всего десять человек, по пять на северной и южной сторонах. Гиматии спущены до низа живота, на головах венки. К клинам придвинуты трапедзы, на которых лежат венки.
Я не уверен, что это один симпосий, а не два разных. Нормой считалось, что участников должно быть не менее числа Граций и не более числа Муз. Для удобства беседующих клины расставляли в комнате покоем, оставляя четвертую сторону свободной для входа-выхода слуг, музыкантш, танцовщиц, гимнасток. Трудно представить, как выглядел бы зал на десять симпосиастов. Общаться им было бы трудно.
На северной стороне юноша, лежащий на среднем клине, решил попытать счастья в игре в коттаб. Он хочет плеснуть вином из своего килика в килик, который держит в вытянутой руке средних лет муж, лежащий в одиночестве на левом клине. Это не значит, что в него-то и влюблен юноша. Он всего лишь попросил подержать чашу — и тот держит. А вот сосед юноши не обращает внимания на его переживания. Забыв в руке килик, он, рот разинув, наблюдает, как на клине справа юный арфист останавливает порыв своего соседа, который, охватив его затылок, попробовал притянуть его для поцелуя. Их килики стоят на трапедзе. Любовная интрига, которой художник искусно охватил пятерых, — лишний довод в пользу того, что этот симпосий — отдельный.
На южной стене интрига не любовная, а музыкальная, тоже представленная пятью участниками. Лежавший на клине слева играл на арфе. Вдруг зазвучал авлос юноши с правого клина, и потянулась вдохновенная песнь его эраста. Перехватив лиру правой рукой,