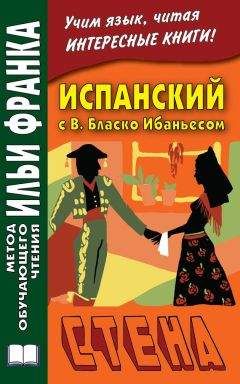– Я не хочу! Я не хочу!
Это былъ прежній хриплый, нервный, деспотичный голосъ, который вызвалъ у него ледяной страхъ и безпокойство въ ту ночь, когда они впервые поссорились въ Римѣ. Маленькая женщина съ ненавистью глядѣла на обнаженное тѣло, отливавшее на полотнѣ ослѣпительными перламутровыми тонами. Она чувствовала себя, казалось, какъ лунатикъ, который просыпается внезапно посреди площади подъ взорами тысячъ любопытныхъ глазъ, жадно впившихся въ его наготу, и не знаетъ, что дѣлать и куда скрыться. Какъ могла она пойти на такое безстыдство?
– Я не желаю, – кричала она въ бѣшенствѣ. – Уничтожь ее, Маріано, уничтожь.
Но Маріано тоже чуть не плакалъ. Уничтожить картину? Можно-ли требовать такую нелѣпость! Лицо было совсѣмъ другое; никто же не могъ узнать Хозефину. Съ какой стати лишала она его шумнаго успѣха?.. Но жена не слушала его. Она бѣшено ворочалась на мѣхахъ и стонала, и корчилась, какъ въ ту памятную ночь, стискивая руки и дрожа, какъ умирающая овца, а изъ губъ ея, искривленныхъ отвратительною гримасою, продолжали вылетать хриплые крики:
– Я не желаю… я не желаю. Уничтожь картину.
Она жаловалась на судьбу, оскорбляя Реновалеса. Она, барышня, подвергалась такому униженію, какъ публичная дѣвка. О, если-бы она знала это впередъ!.. Какъ могла она подумать, что мужъ предложитъ ей такую гадость!
Оскорбленный низменными упреками, которыми рѣзкій и хриплый голосъ Хосефины осыпалъ его, забрасывая грязью его художественный талантъ, Реновалесъ не подходилъ къ женѣ, предоставляя ей кататься въ бѣшенствѣ по полу, и ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, сжавъ кулаки, глядя въ потолокъ и бормоча себѣ подъ носъ испанскія и итальянскія ругательства, которыя были въ ходу у него въ мастерской.
Но вдругъ онъ остановился, застывъ на мѣстѣ отъ испуга и изумленія. Хосефина, въ голомъ видѣ, прыгнула на картину съ ловкостью бѣшеной кошки. Первымъ же ударомъ ногтей она прорѣзала картину сверху до низу, смѣшавъ еще не засохшія краски и сорвавъ корочку въ сухихъ мѣстахъ. Затѣмъ она схватила ножичекъ изъ ящика съ красками и трахъ… Полотно издало протяжный стонъ и раздѣлилось на двѣ части подъ напоромъ бѣлой руки, которая посинѣла, казалось, отъ неудержимой ярости.
Реновалесъ не пошевелился. Возмущеніе вспыхнуло было въ немъ, у него явилось желаніе броситься на жену, но онъ упалъ, подавленный, какъ ребенокъ, желая плакать, убѣжать куда-нибудь въ уголъ и спрятать свою слабую и тяжелую голову. Хосефина продолжала рвать картину, путаясь ногами въ деревянномъ мольбертѣ, отрывая отъ холста куски, бѣгая со своею добычею взадъ и впередъ, какъ взбѣсившееся животное. Художникъ прислонился головою къ стѣнѣ, и изъ атлетической груди его вырывались трусливые стоны. Къ огорченію художника, лишившагося своей картины, присоединилась горечь разочарованія. Онъ впервые понялъ теперь, чѣмъ будетъ его существованіе. Какъ опрометчиво поступилъ онъ, женившись на барышнѣ, которая видѣла въ его искуствѣ лишь карьеру и средства къ добыванію денегъ и хотѣла заставить его примѣниться къ предразсудкамъ и традиціямъ міра, гдѣ она родилась! Онъ любилъ ее, несмотря на это, и былъ увѣренъ въ томъ, что она любила его не меньше. Но увы! можетъ-быть онъ сдѣлалъ бы лучше, оставшись одинокимъ и свободнымъ для искусства, а, если бы почувствовалъ потребность въ подругѣ жизни, то отыскалъ бы себѣ красивую, простую бабу, покорную, какъ хорошее и породистое животное; такая по крайней мѣрѣ восхищалась бы имъ, какъ маэстро, и слѣпо подчинялась бы его волѣ.
Прошло три дня. Реновалесъ и Хосефина почти не разговарили между собою, лишь украдкою поглядывая другь на друга; оба были подавлены домашнею бурею. Но одиночество, въ которомъ они жили, и пребываніе подъ одною крышею заставили ихъ пойти другъ другу навстрѣчу. Хосефина заговорила первая, какъ будто грустное и подавленное настроеніе великана, бродившаго по квартирѣ съ видомъ больного, внушало ей страхъ. Она обняла его, поцѣловала въ лобъ и пустила въ ходъ всевозможныя ласки, чтобы вызвать на его лицѣ слабую улыбку. Кто любитъ его? Его Хосефина, его… обнаженная. Но… наготѣ былъ положенъ теперь конецъ. Онъ долженъ быть забыть свои отвратительныя желанія навсегда. Приличный художникъ не думаетъ о подобныхъ вещахъ. Что сказали бы его многочисленныя друзья? Въ мірѣ столько прекрасныхъ сюжетовъ для картинъ. Они могутъ отлично жить дальше въ мирѣ и любви, если онъ не будетъ дѣлать ей непріятности своею неприличною маніею. Эта страсть къ наготѣ была просто постыднымъ пережиткомъ временъ его богемы.
Побѣжденный ласками жены, Реновалесъ помирился съ нею, постарался забыть о своей картинѣ и улыбнулся съ покорностью раба, который любитъ свои цѣпи, потому что онѣ обезпечиваютъ ему жизнь и покой.
Съ наступленіемъ осени они переѣхали въ Римъ. Реновалесъ снова принялся работать для своего антрепренера, но тотъ выразилъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ недовольство его работою. He то, чтобы сеньоръ Маріано исписался, это нѣтъ. Но корреспонденты антрепренера жаловались на нѣкоторое однообразіе въ его сюжетахъ. Торговецъ посовѣтовалъ ему поѣхать путешествовать. Онъ могъ прожить зиму въ Умбріи и писать старыя церкви или крестьянъ на фонѣ суровыхъ пейзажей. А лучше всего сдѣлалъ-бы онъ, если-бы уѣхалъ въ Венецію. Какія великія вещи могъ-бы создать сеньоръ Маріано у венеціанскихъ каналовъ. И такимъ образомъ зародился у художника планъ покинуть Римъ.
Хосефина безпрекословно подчинилась его желанію. Ежедневные выѣзды и визиты въ безчксленное множество посольствъ начали надоѣдать ей. Какъ только сгладилось первое пріятное впечатлѣніе, Хосефина замѣтила, что важныя дамы относятся къ ней съ обидною снисходительностью, какъ будто она спустилась чиномъ ниже, выйдя замужъ за художника. Кромѣ того посольская молодежь, атташе всевозможныхъ расъ, блондины и брюнеты – все холостяки, искавшіе развлеченій въ предѣлахъ міра дипломатіи – позволяли себѣ съ нею дерзости во время тура вальса или фигуры котильона, какъ будто считали ее доступною изъ-за ея брака съ художникомъ, который не могъ блистать въ салонахъ парадною формою. Они дѣлали Хосефинѣ циничныя предложенія на англійскомъ или нѣмецкомъ языкѣ, а она, бѣдная, должна была только сдерживаться вмѣсто отвѣта, улыбаясь и кусая губы, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ Реновалеса, который не понималъ ни слова на иностранныхъ языкахъ и былъ доволенъ вниманіемъ къ женѣ со стороны свѣтской молодежи, изящнымъ манерамъ которой онъ старался подражать.
Переѣздъ въ Венецію былъ рѣшенъ. Другъ Котонеръ распрощался съ ними. Ему было очень жаль разставаться съ молодою четою, но его мѣсто было въ Римѣ. Папа чувствовалъ себя какъ разъ очень плохо въ эти дни, и, въ надеждѣ на его смерть, Котонеръ готовилъ портреты всѣхъ размѣровъ, стараясь отгадать, кто будетъ преемникомъ больного.
Перебирая впослѣдствіи событія своей жизни, Реновалесъ вспоминалъ всегда съ наслажденіемъ и тихою тоскою о времени, прожитомъ въ Венеціи. Это былъ лучшій періодъ его жизни. Прелестный городъ на лагунахъ, окутанный золотымъ свѣтомъ среди трепещущихъ водъ, очаровалъ его съ первой же минуты, заставивъ забыть страстную любовь къ человѣческому тѣлу. Восхищеніе наготою улеглось на нѣкоторое время. Онъ влюбился въ старые дворцы, одинокіе каналы, лагуны съ зеленою и неподвижною водою и въ духъ славнаго прошлаго, который виталъ, казалось, надъ величественною стариною мертваго, но вѣчно улыбающагося города.
Супруги поселились во дворцѣ Фоскарини, огромномъ красномъ домѣ съ подоконниками изъ бѣлаго камня; дворецъ этотъ выходилъ на узенькій водяной переулокъ вблизи Большого канала. Въ прежнія времена тутъ жили торговцы, мореплаватели и военный людъ съ острововъ Востока. Но практичный и непочтительный духъ современности преобразилъ дворецъ въ доходный домъ, раздѣливъ золоченые салоны гадкими, некрасивыми перегородками, устроивъ кухни въ филиграновыхъ аркадахъ роскошнаго двора, наполнивъ сохнущимъ бѣльемъ мраморныя галлереи, которымъ вѣка придали янтарную прозрачность старинной слоновой кости, и замѣнивъ простыми плитками старый испорченный полъ изъ чудной мозаики.
Реновалесъ съ женою заняли квартиру, которая была ближе всѣхъ къ Большому Каналу. Каждое утро Хосефина видѣла съ балкона, какъ подплываетъ за ея мужемъ тихая и быстрая гондола. Гондольеръ, привыкшій возить художниковъ, громко звалъ signor pittore, и Реновалесъ спускался внизъ, неся подъ мышкой ящикъ съ акварельными красками. Лодка немедленно уплывала по извилистымъ и узкимъ каналамъ, покачивая вправо и влѣво своимъ серебристымъ гребнемъ, словно она обнюхивала путь. Какіе чудные, безмятежно-тихіе часы проводилъ Реновалесъ въ сонныхъ водахъ узкаго канала между двумя высокими дворцами съ нависающими крышами, державшими каналъ въ вѣчномъ мракѣ! Гондольеръ дремалъ, растянувшись на одномъ изъ загнутыхъ кверху концовъ лодки, а Реновалесъ писалъ, сидя, венеціанскія акварели – новый жанръ, который былъ встрѣченъ римскимъ антрепренеромъ съ большимъ восторгомъ. Легкая кисть Реновалеса производила эти картины съ такою быстротою, точно это были механическіе отпечатки. Въ водяномъ лабиринтѣ Венеціи имѣлся одинъ каналъ, который Реновалесъ называлъ своимъ «доходнымъ имѣніемъ» за то, что тотъ приносилъ ему кучу денегъ. Онъ написалъ безчисленное множество картинъ съ мертвыхъ и безмолвныхъ водъ этого канала, слегка оживлявшихся лишь разъ въ день подъ его тихою гондолою. Тутъ были два старыхъ дворца со сломанными жалюзи, съ мрачными дверьми, покрытыми налетомъ вѣковъ, съ лѣстницами, изъѣденными зеленою плѣсенью; въ глубинѣ ярко свѣтился низенькій сводъ, мраморный мостъ, а подъ нимъ жизнь, движеніе, солнце на широкомъ, оживленномъ каналѣ. Заброшенная водяная улочка воскресала вновь каждое утро подъ кистью Реновалеса. Онъ былъ въ состояніи написать ее съ закрытыми глазами, а торговая предпріимчивость римскаго еврея распространяла ее по всему міру. Вечера Маріано проводилъ съ женою. Иногда они ѣздили въ гондолѣ на Лидо и, сидя на песчаномъ берегу, любовались сердитыми волнами широкой Адріатики; водное пространство было покрыто до самаго горизонта бурною пѣною, похожею на стадо бѣлоснѣжныхъ барановъ, которые мчатся впередъ въ паническомъ страхѣ.