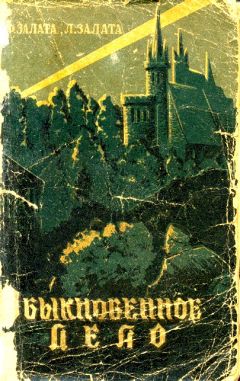Нету Маврина в его кубрике. Куда подевался? Терентий выскочил на верхнюю палубу. А там – между фок-мачтой и второй башней – толпятся, кричат, да чуть не драка. Подбежал Терентий, увидел: сцепились Зиновий Бруль и машинист Воронков. Бруль, второй артиллерист линкора, ухватил ручищами Воронкова за ворот бушлата, а тот, маленький и юркий, вырывался и орал простуженным голосом:
– Ты рук не распускай! Твой дружок Петриченко сбежал, так его мать, а тебя мы не пустим! Не уйдешь от трибунала!
– Нас… я на твой трибунал! – гремел Бруль. – Да кто ты такой, штоб на корабле командовать?
– А вот и командую! – Воронков напрягся, отбросил руки Бруля. – Командир линкора сбежал, старпом и старшарт смылись, а вас, которые по Красной армии стреляли, мы – под арест берём!
И подступили к Брулю несколько военморов, в их числе и Кондрашов из боцманской команды, ростом с оглоблю, – ну, понятно, коммунисты корабельные тихо сидели, когда восстал Кронштадт, а теперь…
– Но, но! – неслось из свалки, вперемешку с матюгами. – Руки!.. По морде получишь, новый комиссар!.. А пулю в лоб не хошь?!. Убери руки, гад!.. Всех вас, стреляльщиков, – к стенке!.. Вон еще один стоит, из судового комитета!..
Это уже к нему, Терентию, относилось. Он не стал ждать, когда за ворот схватят, – быстро отступил в тень башни и – бегом в свой кубрик.
В висках у него колотилось тревожно. Маврина нет, сбежал, наверно, Маврин… Весь судовой комитет съехал, один он, Терентий, застрял на корабле... ну и Бруль еще, тоже член комитета… Бруль малой артиллерией командовал, палил в Красную армию из стодвадцатимиллиметровых пушек. А он-то, Терентий, какой стреляльщик?.. Ну, ток подавал к моторам… к орудиям, к зарядникам, – за это к стенке?!.
Вниз по трапу в полутемный кубрик, а навстречу – Юхан Сильд с парусиновым чемоданом в руке.
– Яша! – обрадовался Терентий. – Ты уходишь? Обожди пять минут, вместе пойдем!
– Ну, давай быстро. – У Сильда под надвинутой на брови шапкой глаза будто белым огнем горели. Он на себя был непохож.
У Терентия чемодана из парусины нет. Быстро покидал в вещмешок скудное свое имущество – фланелевку и брюки первого срока, тельники, трусы, носки, пачку газет «Известия ВРК» сунул – и к трапу. Прощай, кубрик, дорогуша-кубарь с вечным твоим шумом, гамом, храпом, с подвесными койками, с твоими беспокойными снами. Прости-прощай, линейный корабль «Петропавловск»!
Быстро зашагали к сходне.
– Ваш Воронков, он же, как ты, машинист, вот он объявил себя комиссаром, – сказал Терентий.
Сильд не ответил.
– Хочет сдать линкор большевикам.
Сильд буркнул неразборчиво – ругнулся, наверное, по-эстонски.
У сходни заминка. Десятка полтора военморов тут столпились – вооруженная вахта загородила им дорогу, не пускала на трап. Препирались, матерились, вахтенные орали, что не велено сходить на берег. Угрожали:
– Стрелять будем!
Но обошлось без стрельбы – вахтенных отпихнули, сбили с ног, и загрохотали по сходне башмаки-говнодавы.
Скорым шагом – по Усть-Рогатке, западной стенке Средней гавани. Со стороны Петроградских ворот несется стрельба, тяжелый разговор пулеметов. Кажется, уже и в Военной гавани, во дворах Пароходного завода идет бой.
Где-то Сережка Елистратов? – влетела Терентию в голову беспокойная мысль. Брательник, живой ты? Лекпом не стреляет, лекпом раненых вытаскивает… перевязывает… но когда вокруг стрельба, то…
Туман опускается на Кронштадт, но, похоже, бой не дает туману сгуститься в улицах, в гаванях… огонь нескончаемого боя рвет туманное одеяло на полосы… Пульсирует огнем расстрелянное небо…
Повернули налево, к Нарвской площади.
– Яша, ты ж не артиллерист… Тебя не тронут… Почему уходишь в Финляндию?
Юхан Сильд бросает на Терентия быстрый взгляд.
– Почему, почему… – Сильд запыхался, голос у него не такой, как обычно. – Они что, спрашивать будут?.. Кого поймают, того… А финны к нам, эстонцам, рóдники…
– Родственники?
– Да… Зачем ты… почему стоишь?
Терентий, перейдя канал, остановился на углу Соборной, то есть Карла Маркса. Нарвская площадь – вот она, в десяти шагах, там черная толпа, колыхание в тумане, лошади, повозки. Но Терентий протягивает Сильду руку:
– Ты иди, Яша. Я потом… мне зайти надо… Счастливо, Яша! Будь жив!
К Редкозубовым ночью, под утро, чуть не влетел в окно снаряд. Рвануло в канале, и еще, и на улице под самым окном – шальной осколок ударил в стекло одной из рам – оно со звоном разлетелось по комнате – ладно хоть, что никого не порезало. Капа с визгом кинулась в дальний угол комнаты, села на пол, съежилась, босая, в длинной ночной рубашке. Таисия Петровна, тоже в ночном платье, крестилась, бормотала молитву. Федор Матвеевич, в трусах по колено, стоял твердо перед разбитым окном, матерился сквозь зубы, соображал, где взять стекло, или, может, просто досками заколотить…
А канонада нарастала, вот и линкоры ударили, а когда бьют их двенадцатидюймовки, в Кронштадте сильное сотрясение воздуха и земли. И воют от страха собаки.
По работе артиллерии Редкозубов пытался понять, что происходит. Ясно было: Ленин с Троцким хотят вконец подавить восставших матросов, по Кронштадту садит тяжелыми Красная Горка, а калибром поменьше бьют батареи из Сестрорецка и Рамбова, бронепоезда тож. А по ним лупят в ответ форты и линкоры. Ну, охренели все! Чего не поделили – власть? Да подавитесь вы своей властью! Людям от вашей драки кушать нечего – понятно, нет? Вчера он, Федор Матвеевич, пошел паек получить, под обстрел попал, лежал, прижавшись боком к стене Гостиного двора; ну, обошлось, встал, отряхнулся, сунулся к пункту выдачи – а он закрыт!
Хорошо, что у Таси в загашнике перловая сечка, – ею и питались вчера. И сегодня тоже – сечка и чай. И привет от Тухачевского. Сплошная, в общем, тухасечка.
С ночи как начали (вон, стекло разбито, Капка напугана, скулит в углу), так и идет, значит, штурм. Пушки не умолкают. Он, Редкозубов, различил даже: в южной стороне работают «канэ» – шестидюймовки, которые он в начале германской войны поставил на форту Милютин. Хорошие пушки, шесть штук.
Утром хотел сходить к Гостиному двору – может, начали паек выдавать, – но Таисия Петровна умолила не вылезать из дому. Какой паек?! Стрельба уже в городе – к Петроградским воротам, наверно, со льда прорвались.
Сиди и жуй опостылевшую перловку.
Капа места себе не находила. Бродила по комнатам, ладонями уши закрывала от грома пушек линкоров. Воображала, как Терентий, Терёша, заряжает эти пушки (знала, что он артиллерист, но не представляла подробностей его работы). Давно они не виделись – как началась стрельба, так и перестали отпускать военморов с кораблей в город. А ей, Капе, очень хотелось Терёшу увидеть. Да и не только увидеть – было о чем поговорить.
С мамой повести разговор о том, что ее вот уж неделю тревожило, Капа не решалась. Видела, как мать обеспокоена. Как она бормочет молитвы и крестится, уставясь на угол, в котором раньше висела икона. Эту потемневшую от времени икону отец снял года два назад… или три уже?.. ну, когда объявили, что бога нет, а религия – опиум, придуманный эк… плук… ну, угнетателями народа… Что такое опиум, Капа не знала. Но очень было жалко маму, как она плакала, когда отец собственноручно снял икону из угла, в котором она сто лет висела. Вон, обои на стенах кругом выцвели, а под бывшей иконой они как новенькие… такой коричневый квадрат… «Что поделаешь? – сказал тогда отец. – Не плачь, Тася. Надо сполнять, что власть приказывает».
Власть – она всегда со стрельбой. За нее всегда дерутся – разве не так? Вон – захотели в Кронштадте власть поменять, «третью революцию» сделали, как Терёша говорил, чтобы в совете не одни только коммунисты сидели. Так нельзя! Целая армия, говорят, по льду пошла на Кронштадт – и вот стрельба…
Весь день стрельба не умолкала. К вечеру усилилась и вроде приблизилась. Сквозь разбитое окно в комнату втекал холод. Федор Матвеевич завесил окно старым одеялом, но все равно было холодно. И электричества не давали.
Зажгли керосиновую лампу. Света от нее было, казалось, меньше, чем теней. Редкозубов ватную куртку надел, а женщины закутались в шерстяные кофты. Сидели в полутьме, слушали стук пулеметов. Ждали… а чего ждали?
– Что же будет, Федя? – спросила Таисия Петровна.
– Не знаю. – Он подумал и добавил: – Что будет, то и будет.
Молчали. Слушали.
– Летом Клава звала к ним в Шую, – сказала Таисия Петровна. – Вот и надо было поехать. – Она вздохнула.
– Ну и что там в Шуе? Пироги с капустой? Голь перекатная… У них Шуя, а нам… – Редкозубов удержался от окончания фразы.
Капа подумала: да, жалко, что не поехали. Тетя Клава, мамина сестра, добрая… своих детей нету, так она к ней, Капе, как к дочери… Ездили в Шую однажды, она, Капа, совсем маленькая была. Тёти-Клавин муж, машинист, как-то раз привел ее на станцию и поднял в паровоз, показал там все, она потрогала блестящие ручки – интересно!