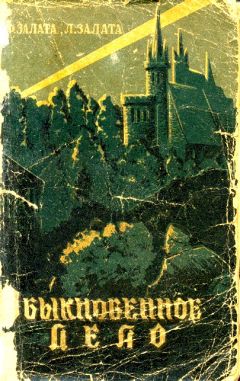Только Капа вспомнила шуйский паровоз, как раздался стук в дверь. Кто-то стучался с улицы. Федор Матвеевич встал, пошел было открывать, но Таисия вскрикнула:
– Нет! Не ходи, Федя! Мало ли кто там…
А стук усилился – кулаком, что ли, бухали в дверь.
Капе вдруг в голову будто стукнуло – сорвалась, бросилась из комнаты, мать не успела удержать. Темным коридором пробежала Капа, ключ повернула, засов отодвинула, распахнула дверь – и кинулась с криком «Терёша!» в его объятия.
Терентий целовал ее, целовал. Крепко держал – словно в спасательный круг вцепился.
Редкозубов с лампой в руке выбежал в коридор, а за ним Таисия.
– Вот какой гость! А ну, зайди! – крикнул Федор Матвеевич. – Хватит целоваться!
Вошли в комнату. Терентий огляделся, будто опасаясь чего-то.
– Ну? – Федор Матвеевич поставил лампу на стол. – Чего дышишь? Гнались, что ли, за тобой?
– Никто не гнался…
Терентий только на Капу смотрел, только ее видел. А Капу мать за плечи обхватила – обороняла своенравную девочку от неясных угроз – от войны, от стрельбы за окном, да и от военмора этого, с непозволительными его поцелуями…
– Кончилась ваша буза? – вопросил Редкозубов. – А? Побунтовали, коммуну прогнали. А она со льда пришла и хвать вас за жопу! А? Чего молчишь?
Терентий выпрямил позвоночник и, пройдясь мрачным взглядом по Редкозубову, сказал, будто выталкивая из горла трудные слова:
– Где вы коммуну видели? Расстрелы только… отбираловка… вобла вонючая… Не буза была – хотели, чтоб жизнь по правде… Они с нами говорить не схотели… Лед кровью залили…
Помолчали немного. Неутомимо стучали за окном пулеметы. Редкозубов трехпалой десницей потеребил волосы на макушке.
– Ну? – спросил тихо. – Что ж теперь будет?
– А то и будет, что было. – Терентий опять на Капу уставился. – Расстреливать будут. А я… ну не хочу к стенке… Ухожу… Вот, проститься пришел…
– Куда уходишь?
– В Финляндию… больше некуда…
– Терё-о-оша! – вскрикнула Капа.
Вырвалась из рук матери, бросилась к Терентию. Со всей нежностью, на какую был способен, он целовал ее, плачущую.
Родители смотрели, оцепенев.
– Прости, – проговорил Терентий сдавленным от горя голосом. – И вы простите… Счастливо оставаться…
Поправил вещмешок за плечами, шагнул к двери.
– Обожди! – крикнула Капа.
Метнулась в смежную комнату, принесла оттуда фотокарточку на твердом картоне.
– Вот… возьми… на память, – сказала сквозь слезы.
Надвигалась ночь. Уже почти сутки шел штурм Кронштадтской крепости. Переутомленность обеих сторон была страшная. Бой то затихал, захлебывались пулеметы на углах улиц, то вспыхивал вновь. Ожесточение рвалось огнём из раскалённых пулемётных стволов. Ненависть обрушивалась осколками снарядов и ручных гранат.
Никак не могла остановиться разгулявшаяся по России война своих против своих.
Но силы – количество штыков и стволов – были неравны. Штурмующие медленно продвигались, выбивая, вытесняя оборону с улиц, простреленных насквозь. В десятом часу вечера мятежные пехотинцы и матросы сводных команд бросились в отчаянную контратаку – на Угольной площадке начался смертный бой. Последний бой восставшего Кронштадта против беспощадного к нему государства.
А в это самое время выезжали из Кронштадтских ворот и, трясясь на ухабах и наплывах льда грунтовой дороги, ехали к форту Риф, что на западной оконечности Котлина, подводы с беженцами. Уезжали главные люди восстания – члены Революционного комитета, командиры из штаба крепости, военморы с «Петропавловска» (немногие) и «Севастополя» (еще меньше), из береговых частей, артиллеристы, бежавшие с захваченных фортов, а также многие «простые» люди – жители города, по разным причинам опасавшиеся репрессий. На подводах далеко на всем хватило мест – тянулась к Рифу длинная вереница пеших беженцев. И уже близ форта съезжали на лед конные повозки, наполненные мрачными молчаливыми людьми в бушлатах, серых шинелях, «гражданских» пальто. Были среди них и женщины, и дети.
Тысячи людей из Кронштадта уходили по льду в неизвестность, в другую жизнь.
А на Угольной площадке гремел смертный бой. Красные бойцы выдержали атаку и, получив подкрепление, стали теснить мятежников. А те, огрызаясь огнём, отходили, отдавали улицу за улицей – но потери были большие, и кончались патроны, не стало подносчиков боеприпаса. Укрывались в домах, из окон стреляли в перебегающие фигуры красноармейцев. У Гостиного двора задержали «Тухача». Отходили на Павловскую, на Луговую улицу, к Кронштадтским воротам, а дальше – ну что ж дальше, боеприпаса нет, да и сил нету, чтобы кинуться в штыковую… Рассыпáлись, растекались по домам, по дворам, а иные вышли на дорогу, направляясь к форту Риф…
Около трех часов ночи восемнадцатого марта утихла стрельба. Еще слышались отдельные выстрелы, но – штурм был закончен. Крепость Кронштадт пала.
В пять утра части Северной группы взяли форты Тотлебен и Обручев. Заняли без боя: артиллеристы мятежных фортов ушли в Финляндию.
К девяти часам утра части 79-й и 80-й бригад, кровью искупившие «преступное митингование», окончательно очистили от мятежников город Кронштадт.
К одиннадцати утра бойцы Южной группы заняли форты Риф, Милютин и Константин.
Всё было кончено.
Сразу началась расправа.
По особому приказу тех, кто был захвачен с оружием в руках, расстреливали на месте. Все остальные военнослужащие прошли через трибунал. Особисты, чекисты не утруждали себя долгим следствием. Требовали ответа на два вопроса: где был во время восстания и кто твои «сообщники». Голосовал 2-го марта за «линкоровскую» резолюцию? К стенке! Принес в свою часть листовку или «Известия ВРК»? К стенке! Само пребывание в крепости в дни мятежа выглядело преступлением.
Особенно жестокой была расправа с моряками линкоров. Накануне, вечером 17-го, лишь небольшая часть экипажа «Петропавловска» успела скрыться: командир линкора Христофоров, старпом, старший артиллерист и десятка два военморов (члены судового комитета, башенные комендоры) ушли по льду в Финляндию. С «Севастополя» ушло и того меньше – военморы-коммунисты воспользовались замешательством комсостава и задержали, арестовали врид командира линкора, старпома, артиллерийских начальников, штурмана, членов судового комитета. Все они по приговору реввоентрибунала 20 марта были расстреляны.
В тот же день, 20-го, заседала на «Петропавловске» чрезвычайная тройка – слушали «дело» по обвинению 167 военморов. Заседали недолго – всех приговорили к расстрелу, в том числе и артиллериста Зиновия Бруля. Расстрелы продолжались и в следующие дни. 1 – 2 апреля судили еще 64 военморов с восставших линкоров. 20 апреля на заседании президиума Петроградской губчека приговорено – главным образом к расстрелу – огромное количество кронштадтцев, не только с кораблей, но и из береговых частей. Приговоры все были окончательные и обжалованию не подлежали. Исполнялось в тот же день.
По всему Кронштадту неутомимо работали чекисты – шел поголовный обыск. По доносам осведомителей хватали и тех, кто не был причастен к мятежу, а просто родственников или знакомых «кронмятежников». Применялись, как докладывал один из следователей, «наказания в целях устрашения обывательской антисоветской массы».
– Ну, всё, – сказал Редкозубов, прийдя домой из артмастерской. – Был «Севастополь», а теперь нету.
– Как это? – удивилась Таисия Петровна, ставя на стол кастрюлю с дымящейся перловой кашей. – Куда ж он подевался?
– Да он-то как стоял, так и стоит. Ему имя дали другое – «Парижская коммуна».
– Зачем? Почему «Парижская»?
– Хватит накладывать. – Федор Матвеевич придвинул к себе тарелку с кашей, взял ложку. – Потому что восемнадцатое – день Парижской коммуны. Когда мятеж уби… ухлопали. Соль подай. – Он принялся за еду. – А «Петропавловск» мой – тоже, говорят, пере… ну, другое дали имя – «Марат».
– А что это такое?
– Может, какого большевика фамилия. – Редкозубов взглянул на дочь, сидевшую у окна. – Капа, кто это – Марат? Вам в школе говорили?
– Нет. Не знаю, папа.
– Никто не знает. – Федор Матвеевич покрутил черноволосой своей головой. – Ну, дела! А чего не садитесь за стол?
– Мы поужинали, Федя, – сказала жена, подперев ладонью щеку. (У нее щеки были раньше круглые, тугие, а теперь, за последние года два, похудели заметно.) Ты ешь, ешь. Как там в мастерской у вас? Пошла работа?
– Да какая работа, – неохотно ответил Редкозубов. – Ходят, проверяют… допросы… где был… за кого голосовал… А чего вы такие смурные? – оглядел он жену и дочь. – Случилось что-нибудь?
– Ничего не случилось. Ешь, Федя. Чай подать?
Не сказала Таисия Петровна мужу, отчего она «смурная». Знала: скажи ему, чтó случилось, так он взорвётся… закричит страшным криком, а то и рукам даст волю…