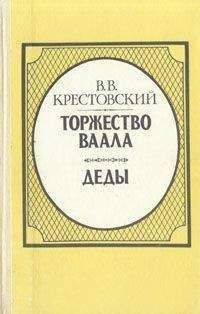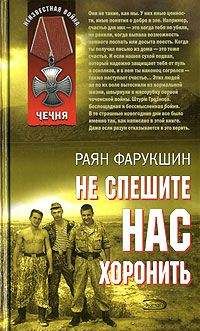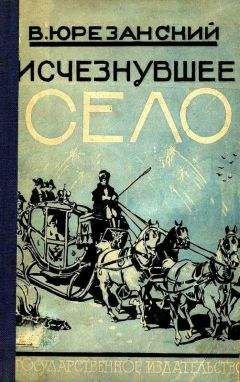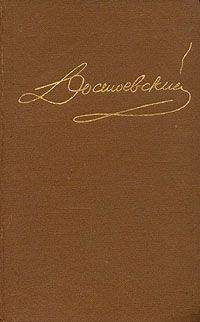Тамара вспомнила, что действительно, за эту неделю село их три раза было будимо по ночам набатом, возвещавшим пожары в ближайшей окрестности. Горели крестьянские дворы и помещичьи усадьбы, горели овины и хлеоные амбары, горели скирды хлеба и стоги сена, и все это становилось жертвой «красного петуха», то от небрежности, то от неосторожности, то от поджога. Редкий вечер проходил без того, чтобы где-ии будь на горизонте не виднелось отдаленное зарево.
— Которые хрестьяны, — заметил Иван Лобан, — по целым неделям об мну пору даже не раздеваются на ночь: боязно, вишь, как вдруг, не дай Бог, пожар али конокрады.
— «Конокрады», «поджигатели»! — передразнил его капитан-лейтенант. грустно и недовольно подфыркивая себе под нос. — А почему же у вас все эти поджигатели да конокрады остаются безнаказанными? Ну-тка? Ведь все они наперечет, и все вы очень хорошо каждого из них знаете! А попадется который, вы же первые перед следователем в молчанку играете, — знать, мат, не знаем, ведать не ведаем!
— Ну, что не путем толковать-то! — возразил ему мельник Данило. — Знамо дело, хоша и знаешь, а молчишь, — боязно показывать-то. Ты на сво докажешь, а он тебя за это потом сожжет. Нешто конокрад боится суда? Что ему суд!.. В тюрьму приговорят? — Эка важность! Он же первый тебе бахвалиться будет, — кому-де тюрьма, а мне хоромы!.. Потому в тюрьме ему и тепло, и сыто, и компанство приятное, и заботы ни о чем никакой.
— И это тоже верно, — подтвердил отец Макарий. — А между тем, важно-то то, что безнаказанность всех этих ссль- чских преступлений плодит их число и усиливает дерзость злодеев, и что же выходит: — Выходит, что целые тысячи мирных и честных крестьян живут под вечным страхом нескольких негодяев. Террор своего рода!
— Разве что своим судом-расправой, одно только и остается! — порешил мужик Липат, сопровождая свои слова выразительным и всем понятным жестом.
— Да, своим судом, легко сказать! — возразил дедушка Силантий. — А за свой-то суд что? — Самих на каторгу засудят… Нешто мало примеровrl. Нет, брат, тут как ни кинь, все клин выходит… Почему-что страху в людях не стало, а страху нет, затем что строгости нет… Построже-то лучше бы было, — вот что!.. А тегтсрь что? — Одно пьянство да озорство, да послабление. Жалятся, вишь, на безденежье да на нужду, — продолжал он, — а нужда-то, она в кабаке сидит, вон она где:.. Слыханное ли дело было, коша бы десять лет назад, чтоб у мужика приходилось продавать с молотка скотину за недоимки, а ноне сплошь и рядом… Теперича у нас вон целые десятки сел таких, что казенная недоимка зашла за двухгодовой оклад… Мирские-то капиталы порастряслись, магазейны пусты, скот ослаб… Дошло до того, что хрестьяны друг у друга хлеб с полей по ночам воруют, — нешто прежде слыхано было такое зазорное дело!? Уж чего хуже и греха-то нет!
— Жид многому причина, — заметил Иван Лобан. — Без жида куды легче было!
Тамару опять точно бы что в сердце кольнуло при этом «проклятом» слове.
— Какой жид? — не удержалась она, чтоб не спросить, стараясь казаться равнодушной и спокойной.
— Да всякий, какого хошь, — нешто мало сво тут!
— Это, видите ли, — пояснил ей лесничий, — причина вся в том, что благодаря нынешним деревенским порядкам мужики потеряли всякий кредит. Им дают теперь лишь ростовщики на пять процентов в месяц, то есть чисто уже на кабалу! А ростовщики эти — разные Разуваевы с Колупаевыми, даже из интеллигентных, да евреи из отставных барабанщиков, или фельдшера там, писаря, приказчики хлебные и тому подобная жидова.
— Но неужели и здесь есть евреи? — непритворно удивилась Тамара.
— А вы думаете нет?! — в свою очередь удивленно спросил лесничий!
— Да, но как же тогда черта-то оседлости? — возразила она. — Ведь существует же такая черта, я слыхала, — как же это?
— Ну что ж, черта чертой, а еврейский наплыв — наплывом/Конечно, — продолжал он, — большая часть из них формально не имеет ни малейшего права на жительство в здешних местах, но ничего, живут себе припеваючи, благо полиция смотрит сквозь пальцы.
— А в земстве-то разве мало их! — напомнил капитан- лейтенант. — Посчитайте-ка: инспектор технологии Коган, инспектор сыроварения Миквиц, инспектор лесоводства Лифшиц, земский дорожный мастер Шапир. земский врач Гольдштейн, провизор земской аптеки Гюнцоург, а фельдшеров-то сколько — страсть!.. Да даже в волостных писарях сидит еврейчик Кауфман! — Что твоя Минская губерния!
— Но кто же их насажал сюда столько? — спросила, все более удивляясь, Тамара. — Мало ли тут!.. Один Агрономский, по своей протекции, скольких провел!
— Да и кроме Агрономского, — заметил отец Макарий. — Земство в нашем уезде, изволите видеть, считается либеральным, — обратился он к Тамаре, — ну, а в программу либерализма, это уж как хотите, а юдофильство входит обязательно.
Тамара почувствовала себя несколько неловко при этом обороте общего разговора, неосторожно вызванного, к ее сожалению и досаде, ей же самой. Почем знать, может быть, в глазах всех этих господ, и она такая же жидовка, как все эти Коганы и Миквицы; может быть, они думают, что и ее прислали сюда тоже по протекции какого-нибудь земского юдофила. Положим, если они думают так, то очень ошибаются, потому что теперь она скорее даже против жидов, чем симпатизирует им по крови; но все-таки ей оттого не легче, если эти господа заблуждаются на ее счет. Не пойдет же она ни с того ни с сего разуверять их, — нет, мол, я не такая, как вы думаете!.. Но как бы то ни было, а только она никак не ожидала, чтобы в Бабьегонском уезде, в глубине одной из центральных великорусских губерний, могло вдруг найтись столько евреев. Это открытие поразило ее крайне неприятно. Неужели и здесь не суждено ей от них избавиться! Она знала, что такое еврейская кагальная солидарность, и знала, как относятся евреи вообще к своим ренегатам, а потому с полным основанием могла опасаться с их стороны всяких для себя клевет, подвохов и подкопов под свою жизнь, под свой кусок хлеба и под доброе имя. Впрочем, никто, как Бог! Узнают ее покороче, тогда и взгляд на нее переменят, будут глядеть как на свою, на русскую, и не дадут в обиду. Значат же, наконец, что-нибудь русские в России!.. Да может быть, эти господа и теперь не глядят на нее как на «жидовку»… Может быть, это одно се воображение и собственная, чересчур уж чуткая, мнительность. Во всяком случае, все они знают, что она христианка и притом православная. Но дальнейший разговор о евреях в земстве был все-таки ей неприятен, и потому она поспешила переменить эту, неудобную для себя, тему, ухватившись, впрочем, за то же самое земство. Обратясь к лесничему, который, за последнюю свою поездку в Бабьегонск, несколько раз присутствовал на заседаниях земского уездного собрания, она выразила сожаление, что ей за спехом ни разу не удалось побывать там. — так торопили ее в управе с отъездом в Горелово! — а между тем ей так хотелось хоть раз заглянуть в заседание, чтоб иметь понятие о том, что это такое.
— Занимательного для постороннего человека мало, — отвечал ей тот, — да вам и не понравилось бы.
Тамара поинтересовалась узнать, почему он так думает, что не понравилось бы?
— Да чему там нравиться, особенно молодой девушке, как вы! — пожал лесничий плечами. — Ну, представьте себе большую комнату, вроде залы, с голыми стенами; в задней половине длинный стол под зеленым сукном, за столом — «интеллигентная» часть гласных, а позади них, на скамейках, — гласные от крестьян, больше все из волостных старшин, да частью из писарей и старост, — словом, все люд подначальный непременному члену, который и командует им по своему усмотрению, распоряжаясь за кулисами всеми этими крестьянскими голосами.
— Ну, а в другой половине залы? — спросила Тамара.
— А в другой публика: служащие в земстве, несколько любителей и любительниц «прений», в особенности стриженые барышни, — одна барышня интересуется такимгто хлестким оратором, другая таким-то, похлестче, — затем, несколько молодых «интеллигентов» из недоучившихся «учащихся», несколько «поднадзорных» и непременный корреспондент-обыватель. Впрочем, публики вообще немного, но атмосфера невозможная, потому что все это заседает и постоянно пыхтит папиросами, так что даже неисходная пелена дыма стоит в комнате. Курят все: и гласные, и публика, и барышни, и даже сторожа с рассыльными, а от крестьян распространяется, сверх того, букет сивухи. Пока интеллигенты «дебатируют» или грызутся с «меньшинством», гласные от крестьян только потеют да икают, а больше все дремлют себе, с носовым присвистом, самым оезмятежным образом, и просыпаются только тогда, как приходит время баллотировать какой-либо вопрос, — ну. тут уж они, как бараны, только и глядят все на непременного: подымется непременный с места, — подымаются враз и они, сидит он — сидят и они, как пришитые, станет непременный с правой стороны баллотировочного яшика, — значит, надо класть направо, станет с левой, — вали налево! Таким образом и получается «большинство». Механика самая нехитрая!