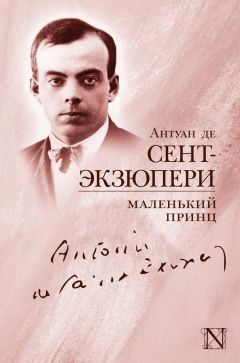Неудивительно, что ты изнемог, отыскивая страсть к совершенствованию у оседлых, – ее нет.
«Заронить желание совершенствоваться, – говорил мой отец, – значит разбудить жажду. Остальное придет само собой». Но ты снабжаешь готовым пойлом сытые животы.
Любовь – это взывание к любви. Совершенствование – тоже. Основа его и есть жажда. Но как поддерживать жажду?
Мы хотим одного, чтобы было все так, как есть. Приучившийся пить будет тянуться к водке. Не из-за пользы: водка принесет ему смерть. Взращенный определенным укладом будет тяготеть к этому укладу. В нас заложено инстинктивное стремление к постоянству, оно сильнее инстинкта выживания.
Я не раз видел, как умирали крестьяне, оторвавшись от своей деревни. Видел газелей и птиц, умиравших, попав к людям.
И если оторвать тебя от жены, от детей, от твоих привычек, погасить огонек, которым ты жил – он светил тебе даже сквозь стены, – может случиться так, что ты не захочешь жить.
И тогда, желая спасти тебя, мне придется позаботиться о царстве духа, в нем возлюбленная будет ждать тебя, подобно зерну, спрятанному в житнице. И вот ты живешь и живешь, ибо нет предела терпению. Дом, которому ты принадлежишь, в помощь тебе и в пустыне. Возлюбленная всегда тебе в помощь, пусть далекая, пусть спящая.
Непереносим для тебя развязавшийся узел, распавшийся мир. Ты умираешь, если умерло твое божество. Оно питает тебя жизнью. И жив ты только тем, из-за чего готов умереть.
Если я одушевил тебя высокой страстью, ты будешь передавать ее из поколения в поколение. Научишь своих детей распознавать любимое лицо в рутине вещественности, царство – в дробности гор, домов и стад, ибо только царство и возможно любить.
Невозможно умереть во имя вещей. Долг смертью платится не тебе – ты путь, кладь, повозка, – а царству. Ты тоже в подчинении у царства. И если царство воплощено, ты готов умереть, защищая его целостность. Ты готов умереть ради смысла книги, но не за чернила и бумагу. Ты и сам связующий узел, значимо не твое лицо, тело, достояние, улыбка – то, что взращивается тобой, та картина, что возникла благодаря тебе и благодаря которой ты сбываешься. Ты творишь ее целостность, она – и есть ты сам.
Редко когда говорят о своей картине: нет таких слов, чтобы, обозначив, передать ее другому. Трудно говорить и о возлюбленной. Ты назвал мне ее имя, но именем не пробудить во мне любви. Я должен ее увидеть. Обозначить, выявить твое царство могут только твои труды. Не слова.
Но ты видел кедр. Я говорю: «Кедр», – и передаю тебе ощущение его величия. Я окликнул кедр в тебе, и он встрепенулся смолистой хвоей.
Заставляя тебя служить любви, я окликаю в тебе любовь – иного средства я не знаю. Но когда кормежку приносят в стойло, какому богу ты захочешь служить?
Бога знают и мои старухи, тратя глаза на снование иголки. Ты велел им беречь глаза. Глаза им больше не в помощь. Ты остановил преображение.
Но во что преобразятся те, кого ты так старательно кормишь?
Ты можешь пробудить в них жажду обладания, но иметь – не значит преобразиться. Можешь пробудить страсть к вышитым пеленам. И они сделаются сундуком, хранящим пелены. Как пробудить в них жажду к снованию иголки? Только такая жажда – настоящая жажда жить.
В молчании моей любви я пристально наблюдал за моими садовниками, за пряхами. Я заметил: дают им мало, спрашивают с них много.
Но они трудятся и трудятся, будто на них, и только на них, возложены судьбы мира.
Я хочу, чтобы каждый дозорный был в ответе за все царство. Дозорный и тот, кто обирает гусениц у себя в саду. И та, что вышивает золотой ниткой, свет нитки едва мерцает, но вышивальщица украшает своего Господа, и Господь в расшитых одеждах бдит над ней и оделяет ее Своим светом.
Я знаю один только способ взрастить человека: нужно научить его сквозь вещество вещественности различать целостную картину. И еще заботливо поддерживать жизнь чтимых тобой богов. В чем прелесть игры в шахматы? В подчинении правилам. Но ты хочешь снабдить игроков рабами, которые бы выигрывали за них.
Ты хочешь подарить каждому по любовному письму, потому что видел: получая их, люди плачут или смеются, – но поверь, к твоим любовным письмам люди останутся равнодушными.
Мало дать. Нужно сотворить того, кто получит. Чтобы шахматы радовали, нужно вырастить игрока. Чтобы любили, должна существовать жажда любви. Богу нужен алтарь. Принуждая моих дозорных ходить сто шагов туда и сто обратно по крепостной стене, я строю в них царство.
Прекрасна та поэзия, что преобразится в поступки, воодушевив в тебе все, даже мускулы. Поэзия – священнодействие.
Но соблюдение правил, обычаев, обязательств, возведение храма и торжественное шествие по дням года – тоже поступки, только другого рода.
Я писал для того, чтобы обратить тебя в свою веру, дав тебе почувствовать, пусть едва ощутимо, благо преображения и позволив на него надеяться.
Конечно, ты мог читать меня рассеянно и ничего не почувствовать, ничего не почерпнуть. Конечно, можно исполнить обряд и не очнуться, не пуститься в рост. Душевная скупость легко отстранится от благородства, таящегося в обряде.
Я совсем не рассчитываю, что в каждый свой час ты будешь мне послушен, как не рассчитываю, что мой дозорный в каждый свой час будет исполнен усердия к царству. Мне достаточно, если среди многих часов один будет моим. И может случиться, что дозорного, от которого я не требую неустанного усердия, в час, когда он мечтает об ужине, посетит озарение, ибо дух не бдит неусыпно, иначе ты ослепнешь, но морю придает смысл черная жемчужина, неведомо кем и когда найденная, году придает смысл праздник, а жизни – смерть.
Что мне за дело, если мой обряд искажается теми, у кого искажено сердце? Во время военных походов я видел, как черный колдун, обуянный жадностью, заставлял свое племя приносить дары деревянной палке, выкрашенной в зеленый цвет.
Что мне за дело, если колдун роняет свой сан? Скульптор, смяв глину, сотворил жизнь.
Человек этот требует благодарности: он сделал им то, сделал это… Но можно ли от дарения ждать урожая, снять его и сложить про запас? Одаряя вновь и вновь, ты одушевляешь и длишь привязанность. Если ты не даришь больше, ты уже как будто и не дарил никогда. Ты говоришь: «Я дарил вчера, и со мной благодарность за эту заслугу». Я отвечу: «Заслуга эта была бы твоей, если б вчера ты умер. Но ты жив. Весомо лишь то, с чем уходишь в смерть. Из благородного человека, каким ты был вчера, ты сделался скупердяем. Сегодня умрет скупердяй».
Ты – корень, питающий дерево, оно живет благодаря тебе. Ты связан с этим деревом, оно сделалось твоим долгом. Но вот ты, корень, говоришь: «Больно много я потратил соков!» Больше не тратишь, и дерево засохло. Так ли уж лестна корню благодарность в виде смерти?
Если дозорный устанет всматриваться в горизонт и заснет, умрет город. Не может дозорный ходить по стене про запас. Не складывает в запас биения твое сердце. Житница не запас – перевалочный пункт. Ты удобряешь землю и вместе с тем ее обираешь. И ошибаешься относительно всего на свете. Отдохновение от трудов созидания представляется тебе музейным залом, где собраны созданные творения. В такой зал ты хочешь поместить и свой народ. Но пуста вещь и не значимо творение, если они не таят в себе смысла. Смыслом их наделяет язык, на котором ты говоришь. Для ловца жемчуга, куртизанки и торговца черная жемчужина – три разные, не похожие друг на друга вещи. Алмаз – драгоценность, когда ты его нашел, когда продал, подарил, потерял, отыскал, когда он сияет в диадеме, украшая праздник. В череде будних дней алмаз – та же галька. Об этом прекрасно знает владелица бриллиантов. Она запирает их в шкатулку и прячет далеко-далеко – пусть спят. Она достанет их в день рождения короля. Они станут олицетворением его величия. А получила она их в день свадьбы. Они были олицетворением любви. В день, когда старатель разбил породу и увидел алмаз, он был олицетворением чуда.
Как радуют нас цветы. И самые прекрасные я бросил в море, поминая погибших. Ими никто не любовался.
Этот человек стал говорить со мной от имени своего прошлого. Он сказал: «Я тот самый, кто…» Будь он мертв, я согласился бы почтить его. Но он жив. Никогда мой друг, единственный подлинный геометр, не перечислял своих заслуг. Он был служителем при треугольниках, садовником в саду символов. Однажды вечером я сказал ему: «Ты должен гордиться своими трудами, ты столько дал людям…» Помолчав, он ответил: «Разве дело в том, чтобы давать? Дающие, получающие – мне одинаково неинтересны. Чем хорош ненасытный король, постоянно требующий жертв? Чем хорош тот, кто согласился стать жертвой? Король возвышается, попирая подданного. Выходит, я должен выбирать, с кем я – с королем или с подданным. Но если король меня унижает, я его ненавижу. Все выглядит совсем по-другому, если мы с королем заодно, если долг короля возвышать меня, раз я принадлежу его дому. Если величие моего государя питается моим величием.