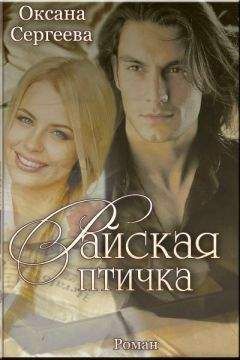По узенькой бетонной дорожке, обсаженной тополями и черемухой, иду к перрону. Сегодня он пуст, самолеты зачехлены и мокнут под дождем.
Мимо меня, шлепая по лужам резиновыми сапогами, проходят техники, они довольны – полетов нет. Можно пораньше и домой.
Но Малышев по-прежнему возле самолета. Отказавший двигатель со всех сторон обставлен стремянками. Дядя Коля стоит неподалеку, размахивая рукой, что-то говорит Малышеву.
Я знаю, после войны они вместе проходили стажировку в далеком северном поселке Витим. Это было еще то время, когда запуск некоторых самолетов проводился при помощи натяжки амортизатора. И для облегчения натяжки использовали лошадь. Делали это следующим образом. Один конец резинового амортизатора цепляли за винт. А другой был закреплен на лошадиной сбруе. По команде летчика возчик трогал лошадь с места, амортизатор натягивался, и летчик по команде «Контакт!» начинал с помощью этого амортизатора раскручивать винт.
Но, когда молодые стажеры решили освоить новое для себя дело, лошадь заупрямилась. И тогда Меделян, вспомнив свое деревенское прошлое, сел на лошадь и заставил-таки стать ее на положенное место.
– Ну, Коля, ты прямо настоящий джигит, – похвалил его Малышев, который уже бывал на запуске, – только пригнись, не то она тебя сбросит.
– Меня сбросить сложно, не одну объездил, – самоуверенно проговорил Меделян.
Так вот, дядя Коля, тогда еще Колька, забрался на лошадь, подъехал к самолету. Малышев закрепил на винте амортизатор, летчик высунулся в форточку, крикнул:
– Контакт!
– Есть контакт, – отозвался Меделян и взмахнул кнутом. И тут лошадь проявила неожиданную прыть, рванулась вперед и, натянув до отказа амортизатор, неожиданно подогнув колени, рухнула на живот.
Сзади засвистело, амортизатор, сорвавшись с винта, со всего маху, как из пращи, полетел в спину Меделяна. Тот кубарем полетел через голову лошади и потом дня два не мог даже присесть на табурет.
– Ты что, думаешь, она не понимает, – хохотал Малышев, – ей тоже надоело получать по заднему месту…
Возможно, именно тогда родился знаменитый афоризм, который гласил, что «самый хитрый из армян – это Колька Меделян». Говорили, что его придумал Малышев, но он готов был перекреститься, что такое могли придумать только завистники. Но шутка вовсю начала гулять по всем аэропортам и трассам.
И бывало, когда я начинал нахваливать своего бортмеханика, то тут же от собеседников слышал эти знаменитые слова.
– А вы поищите еще такого, – отшучивался я, – который на плоскогубцах лучше любого штурмана считает путевую скорость.
Заметив меня, Николай Григорьевич вытер руки ветошью, с какой-то особой гордостью доложил:
– Двигатель цел, нужно заменить два цилиндра, ты дай радиограмму в Иркутск, может, они вечерним рейсом пришлют, Киренск вроде еще работает.
– Держится пока, – вздохнул Малышев, – когда только основную полосу сделают… Уже который год строят, строят, и конца не видно.
В Киренске сейчас две полосы, лежат они рядышком, точно стволы ружья, одна из них старая, фронтовая, с которой и производятся все полеты. Новая, заасфальтированная кусками, уже бездействует который год. И стреляет самолетами узенькая грунтовая полоска, часто с осечками, затяжные дожди быстро выводят ее из строя.
За полосой насыпана дамба, на ней – похожий на летучую мышь радиолокатор, дальше – Лена.
Сквозь зыбкую серую пелену дождя проглядывает противоположный берег, обросшая лесом гора. Под горой нефтебаза, издали кажется, что это огромная баба пришла по воду, поставила ведра и присела отдохнуть.
По Лене ходит теплоход «Хабаровск». За навигацию он успевает сделать всего два рейса до Якутска. Вот до чего длинная река, а с самолета это незаметно. Сам Киренск расположен на острове, в том месте, где Киренга впадает в Лену. Сверху остров напоминает полузатонувшую баржу, соединенную с берегом узкой, как канат, дамбой. И в большую воду кажется, что ее вот-вот сорвет с места, унесет вниз по течению. Орлиным гнездом называли его кочующие в этих местах тунгусы.
В основном городок деревянный, дома тесно прижались друг к другу, точно мебель во время побелки. На левом берегу под скалой есть крохотная гавань, рядом с ней – судоремонтный завод.
Зимой городок облеплен куржаком, сосульками, попыхивает трубами, летом исходит древесной смолой, солнце, не в пример сегодняшнему, надолго зависает над домами, точно паяльная лампа, обжигает землю, по реке бегают моторки, вода теплая, вялая, с утра до вечера плещутся в ней ребятишки.
Зимой Киренск замирает. О том, что есть другие города, что жизнь продолжается, напоминают самолеты; круглые сутки разрывают они воздух над городом.
В дверях аэровокзала я сталкиваюсь с сопровождающим.
– Пошел к начальству, – сообщает он. – Пусть завтра маленькие самолеты дают. А то испортятся помидоры.
Мне почему-то неудобно перед ним, хотя нашей вины здесь нет.
– Пошли вместе.
Начальник отдела перевозок выслушал нас молча, потеребил подбородок:
– Малышев сказал, там делов на пару часов. Зачем зря разгружать. Лишь бы погода была, привезут цилиндры, улетите.
Из диспетчерской я отправил в Иркутск радиограмму и поднялся на второй этаж. Здесь оживленно, сухо, как дятел, стучит телетайп, по коридору бегают операторы, из угловой комнаты доносится гулкий металлический голос – идет радиообмен с пролетающими самолетами.
Сегодня на смене мой земляк Василий Евтеев, он сидит за пультом в белой рубашке с засученными рукавами, что-то говорит в микрофон по-английски. Севернее Киренска проходит международная трасса.
Прямо перед ним черный раструб, в глубине по экрану локатора бежит светлая полоска, следом за ней ползет белая муха, чуть выше, у обреза, замечаю еще одну.
– Узнаю знакомый говорок, даже на английском, – смеюсь я.
– Японец на восток пошел, – объясняет Василий. – А это наш, из Хабаровска возвращается.
Глухо, с украинским выговором, бубнит динамик. На миг я представляю ведущего радиосвязь летчика, пилотскую кабину, где нет дождя, сырости, где минуты, часы наматываются в тугой клубок. У нас же появился разрыв, время движется тихо, это будет продолжаться до тех пор, пока Малышев не свяжет концы.
Вечером, когда уже начало темнеть, в гостинице появился Николай Григорьевич. Он долго умывался, затем, вытирая полотенцем лицо, сказал:
– Цилиндры везут. Как привезут, мы их поставим, – помолчав немного добавил: – Малышев к себе приглашал. Пойдем?
Я взглянул в окно, по стеклу шлепал мелкий дождь, над крышами домов ползли отяжелевшие облака, холодный мокрый день незаметно переходил в такой же сырой неуютный вечер. Честно говоря, мне не хотелось плестись куда-то по грязи.
– Пойдем, пойдем, они вдвоем с женой. Татьяна Михайловна приготовит, как надо, по-домашнему. Чего киснуть здесь!
Я молча оделся, мы вышли на улицу, по размокшей, скользкой дороге мимо темных сгорбившихся домов вышли к озеру. Через озеро был переброшен узенький, напоминающий засохшую сороконожку деревянный мостик. Возле воды было светлее, небо высвечивало темноту одинаково ровно сверху и снизу. Под нами прогибались, пружинили доски, по исклеванной дождем воде от свай расходились и убегали к заросшему травой берегу еле заметные круги.
Малышев встретил нас на крыльце, открыл двери и включил в сенях свет. Миновав еще одну дверь, мы очутились в натопленной кухне.
Запахло укропом, малосольными огурцами. Мы сняли плащи, пригладили перед круглым зеркалом волосы. Малышев с каким-то радостно-сосредоточенным выражением лица провел нас в боковую комнату, усадил на высокий обшитый дерматином диван.
Пол в комнате был устлан домоткаными, в полоску половиками. На стене я разглядел деревянную полку, на ней десятка два книг, в основном технических.
В комнату заглянула хозяйка – темноволосая, широкоскулая. В ней явно чувствовалась тунгусская кровь. Она ласково улыбнулась:
– Все уже готово. Проходите.
Стол был сибирский, каким бывает в конце лета: соленая рыба, соленые грузди, малосольные огурцы, отдельно в огромной белой латке дымилась молодая картошка.
Дядя Коля обежал взглядом стол и принес завернутые в газетный кулек красные помидоры. Я догадался, он их выпросил у сопровождающего.
– Мы высадили под пленку, но они еще не скоро подойдут, – заметила хозяйка, – висят еще зеленые.
Она сходила на кухню, порезала помидоры, заправила их сметаной. Стол приобрел праздничный вид, на нем как раз не хватало красного цвета.
За столом выяснилось, что у нее два дня назад был день рождения, но его не отмечали.
– Сколько вам исполнилось? – невпопад спросил я и тут же пожалел, ну кто спрашивает возраст у женщин!
– Пятьдесят шестой год, – спокойно ответила она.
– Не может быть! – исправляя мою оплошность воскликнул Николай Григорьевич. – Ну от силы лет тридцать бы дал.