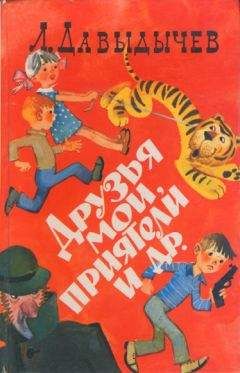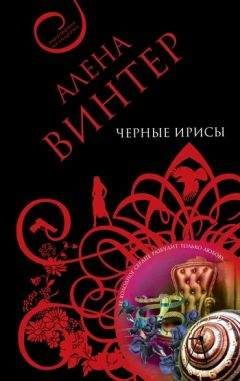Девочки мои, птички перелетные! Последним песо, последней ложкой сахара, разведенного в стакане воды, — часто это бывала пища на целый день — делились мы друг с другом, и наша амистад, о которой не зря расспрашивал меня тогда тот красавчик из органов, — дружба наша как раз и была настоящей, неподдельной. Это я осознала только здесь, в доме, похожем не на ласточкино гнездо, а на огромный бетонный колумбарий, в стране, где хватает хлеба, купленного не по карточке, и одиночества сколько угодно, — в родной Беларуси, куда вернулась из всех вас только я.
У верующих кубинцев есть обычай: один раз в году они облачаются в лохмотья и ползком передвигаются от порога своего дома до церкви Святого Лазаря возле Гаваны, чтобы святой отпустил им грехи. И я могла бы, кажется, проползти — через всю Латинскую Америку с Европой, лишь бы дотянуться хоть кончиками пальцев до моста через Березину, нагих, точно души в потустороннем мире, деревьев старого парка. До сих пор иногда не верю, что мне удалось вернуться домой... Долгое время после возвращения я просыпалась среди ночи, пила, задыхаясь, корвалол, — мне упорно снился один и тот же сон: я в Сантьяго, в доме на улице Агилера, мне уже никогда не выскочить из этой ловушки, я слышала во сне дребезжание возка cartero, крики марширующих толп и щелканье затворов. Посттравматический синдром с годами прошел, но… выскочить я так и не сумела. Вот она, моя клетка, не увитая больше розами, и даже цепкий плющ привял (а зачем, скажи на милость, жизни тебя теперь заманивать?), — и только где-то наверху, там, где по законам пространства должно быть небо, издевательски хихикает, раскачиваясь на прутьях, обезьяна.
«Здесь — пусто, там — тоже пусто». О, теперь ты не собираешься больше спасаться бегством; как затравленный зверь, шерсть в подпалинах, лапа перебита, — ты поняла, что убегать тебе, именно тебе, некуда. Это у других есть еще шансы: изменить (в который раз?) страну проживания, выучить (какой по счету?) язык, — впрочем, все это и ты чудесно могла бы сделать, потому что способности к языкам у тебя не такие уж никчемные, как рассказывала тому усатому красавцу, а как раз наоборот — дай бог каждому. Но это ничего не изменит.
Родиться на свет женщиной; родиться женщиной в белорусской глубинке и отсюда вынести свой жизненный сценарий; родиться женщиной в белорусской глубинке и — как будто этого мало! — с так называемой искрой Божьей и, соответственно, невозможностью идти обычной женской колеей — в любых широтах, на любом полушарии эта триада симптомов способна разве что укрепить стены твоей тюрьмы. Ты будешь биться, как птица, о прутья клетки, грызть, как волчица, железо капкана; в плохие минуты ты даже подумаешь о том, что когда-то совершила преступление, хоть и «по неосторожности», как пишут в констатирующей части приговора, ведь ты была молоденькой дурочкой, которая искала любви и счастья, и потому осудила еще одну душу на жизнь (разве не преступление — рожать детей в мир, какой он есть теперь, каким был всегда?), — но тут же и опровергнешь себя: нет, это было не преступление, а жертва, то, чего ты искала в любви к мужчине, а нашла лишь в материнстве. На эту жертву ты осуждена задолго до рождения; и та душа, которую ты привела в мир, тоже осуждена на нее, и, может, наша внутренняя необходимость рожать и растить, жертвуя собой, в том числе своим призванием, даром Божьим, — и есть тот фундамент, на котором стоит жизнь.
Быть женщиной — это одновременно и ловушка, и величайшее счастье, потому что только у женщины есть корни в мироздании, только она способна испытать чувство полного слияния с другим существом — слияния, достижимого лишь в беременности, — и только она способна родить. Не ее вина, что она рожает в мир, сотворенный мужчинами. Мужчина лишен корней, оторван от всеобщего единства природы и вынужден устанавливать свое господство через такие отвратительные вещи, как штурм Бастилии, казарм Монкада или Зимнего дворца. Но — с другой стороны: именно потому, что он не способен родить, мужчина создает великое искусство. Так как же объяснить непреодолимую тягу к письменному столу, внутреннее осознание долга— перед кем, кстати? перед Богом? будущими поколениями? какая чушь! — если это испытывает женщина? Как ошибку природы, не иначе.
После рождения дочери я запретила себе записывать стихи: все, с этим покончено! — потому что потраченное на стихи время не метафорически, а буквально отнимало у ребенка кусок хлеба, — но они все равно появлялись, снились иногда готовыми строфами (а утром я не могла вспомнить ни строчки — вот было мучение!), вырастали из бормотания, когда неслась на копеечную службу, которая без остатка высасывала мозг; а если что-нибудь все же попадало в тетрадь, то не разделенным на строки и строфы, чтобы не было искушения назвать это стихотворением. Я годами жила словно замурованная в стену. О, в смысле белорусскоязычной культурной среды наша провинция — почти то же самое, что Сантьяго-де-Куба, нет — хуже, ведь там моя особенность легко объяснялась: иностранка, что с нее возьмешь! Знаете ли вы, что такое быть «иностранкой» в месте, где родилась, потому что здесь женщина-поэт (произношу это как диагноз, как клинический синдром) — нечто достойное смеха или сострадания, нечто более жуткое и неуклюжее, чем пресловутый слон в посудной лавке: случайные знакомые при выяснении «диагноза» быстро исчезают, настоящие друзья давно уехали в иные края, а родная мать с неподдельным трагическим пафосом призывает зарабатывать деньги, хотя бы и древнейшим способом, торгуя собой (не обязательно телом). И ты вынуждена зарабатывать. Вот только после этого чувствуешь себя так, словно весь день открывала пивные бутылки алмазным резцом.
О, разумеется, не все так мрачно. И здесь тоже возможны варианты: сразу и навсегда окаменеть, превратиться в бессмысленный кусок плоти, который носится по кругу физиологических потребностей, как мотоциклист по вертикальной стене балагана, и это считает обычной долей человека; либо научиться достаточно комфортной двойной жизни, этой сознательной шизофрении нашего столетия: восемь часов в день делать не то, что хочешь, говорить не то, что думаешь, а вечерами и по выходным позволять себе роскошь «быть собой», как делал это автор упомянутого термина, утонченный поэт (для себя) и офицер вермахта (для общества) Готфрид Бен. Только все это не для тебя — и ты это хорошо знаешь.
Ты никогда не отнимешь у ребенка кусок хлеба, который заработала, торгуя своей изнасилованной душой; никогда не сошлешь ее во второй раз на неведомый остров; по вечерам и выходным ты будешь приносить ей, как ласточка в клюве, хлеб иной: Цветаеву, Богдановича, Заратустру. Ты будешь торопиться, словно за тобой по пятам гонится убийца с ножом. Ты будешь разрываться между Божьим и женским в тебе, между даром и долгом, словно князь, привязанный янычарами за ноги к вершинам двух растущих на противоположных сторонах дороги деревьев. Художник в тебе будет угрюмо сдерживать образы, готовые вырваться на свет, и только когда уже невозможно терпеть, когда… и все-таки, все-таки каждое твое незаписанное, не разделенное на строфы стихотворение будет как зов из-под обломков взорванного дома — чем более безнадежный, тем более настойчивый.
Потому что ты не сдашься, нет, ты не сдашься. Ты будешь — вопреки всему! — противостоять своему личному комендантскому часу: а иначе ради чего ты не покорилась когда-то вооруженной до зубов тирании? Научись же не уступать тени, которая методично старается пригнуть тебя к земле. Ты уже знаешь про абсолютную сознательность и целенаправленность этой силы — но день, когда ты поймешь, что твой враг должен быть сражен только тобой, станет днем твоего спасения. Имя твоего спасения — любовь. И она настолько велика, что может изменить направление ветра, разрушить Карфаген и вновь возвести его из руин. Только любовь даст тебе силы: ты будешь разгребать руины, под которыми погребена, пока ногти не сотрутся до мяса и не порвутся жилы. О, по ночам ты можешь выть в своем бетонном колумбарии сколько угодно — никто не услышит (и в этом — единственная подаренная тебе свобода), а днем, закусив губы, ты двинешься дальше, ты потащишь за собой свою клетку— так волчица волочет окровавленный капкан — и каждый шаг твой будет победой над тенью, которая тоже ждет своего часа. Еще не вышел срок. Не вышел срок. Ох, далека последняя остуда! Дитя, напрасно думаешь, что Бог, вдруг сжалившись, возьмет тебя отсюда. Как оборотень — человек и волк — Он от тебя правдивый образ прячет. Он есть любовь, одновременно — долг. Реши-ка эту дзенскую задачу. Что делать? Жить. Любить. Долги платить. Здесь не тюрьма: амнистий не бывает. Тот свет, возможно, надо заслужить. Лишь в этот нас за просто так пускают…
Да, ты не покоришься, потому что за тобой, след в след, идет девочка, которую ты любишь. Она торопится расти, она тайком берет у тебя уже не пудру, а томики Юнга, чтобы понять свои собственные сны. И, может быть, когда-нибудь она родит девочку — кудрявую, ручки-ножки в складочках — и ты положишь ее на большое махровое полотенце, которое хранишь для такого случая в шкафу, а потом эта девочка вырастет и, возможно, сумеет сломать ту проклятую клетку, чтобы стать, наконец, свободной, как ласточка.