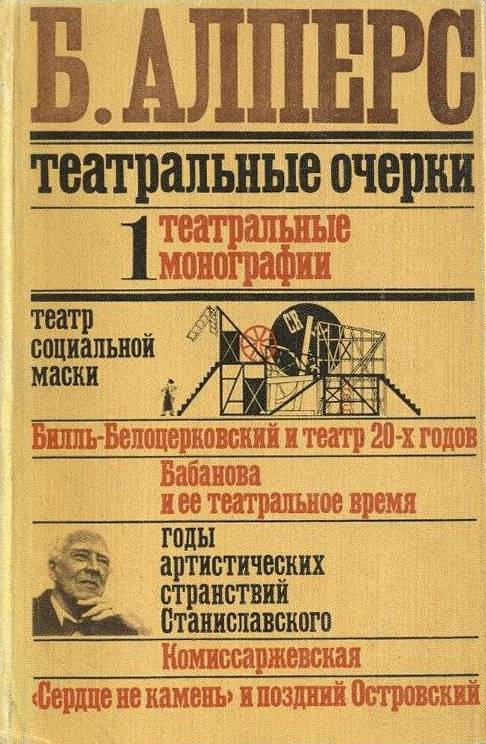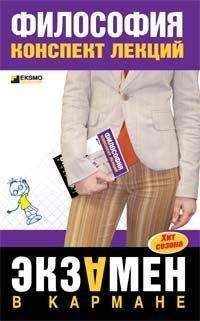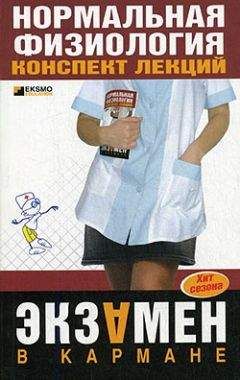царивших в мастерской Рембрандта. Это история о довольно скандальном происшествии, которую поведал Хаубракен. Кто-то из учеников Рембрандта якобы заперся в одной из тех закрытых кабинок, которые мастер придумал для них, чтобы ничто не мешало сосредоточиться на творчестве. Вместе с начинающим живописцем в кабинке пребывала обнаженная натурщица, и он, решив присоединиться к ней, по причине жаркой погоды тоже совлек с себя одежды. «Вот мы, – объявил ученик модели, – нагие, словно Адам и Ева в саду Эдемском». Этот разговор подслушали остальные ученики, а под конец и сам Рембрандт, который стал подсматривать за парой сквозь щель в стене кабинки. Заслышав речь о райском саде, уверяет Хаубракен, Рембрандт стукнул в дверь тростью и закричал: «Но вы же узнали, что вы наги, и посему должны быть изгнаны из Эдемского сада!» Хаубракен излагает этот диалог так, будто это сцена из театральной пьесы. Совершенно закономерным выглядит то, что пьесу об Адаме и Еве поставили в 1591 году ученики латинской школы в Хертогенбосе. После того как Рембрандт произнес свою реплику, пьеса (Хаубракен использует здесь голландское слово spel) завершилась, и мастер выгнал на улицу пару, поспешно пытавшуюся прикрыть наготу. Этот маленький спектакль настолько хорош, что в него трудно поверить, но, с другой стороны, не столь важно, имел ли этот случай место на самом деле. Ведь излагаемая Хаубракеном история точно передает атмосферу мастерской, где ученикам часто предписывалось разыгрывать спектакли. А рассказ о том, что Рембрандт взял на себя роль Господа Бога, как мы увидим, и в самом деле похож на правду. Более того, его роль в этой маленькой драме, разыгравшейся в мастерской, меняет или даже отменяет позднейшее романтическое представление об угрюмом, всеми покинутом и склонном к уединению гении – представление, которое отчасти культивировалось самим Рембрандтом [98].
Сюжетом «пьесы», которую, по свидетельству Хаубракена, прервал Рембрандт, было изгнание Адама и Евы из рая. Данная деталь приводит на память изображения этих персонажей в рисунках Рембрандта. Так, на одном из них Адам смущен и едва ли не испуган настойчивостью Евы, протягивающей ему яблоко (ил. 61), а на офорте, словно изображающем продолжение этой сцены минутой позже, Адам, несмотря на все опасения, вот-вот возьмет яблоко у Евы, которая мрачно (?), терпеливо (?) и выжидательно следит за каждым его шагом (ил. 62). Природа жестов, запечатленных на этих рисунках, позволяет сделать еще один вывод, справедливый для творчества Рембрандта в целом. Не только тип или категория подобных рисунков не имеют аналогов в искусстве предшествующей эпохи – более того, уникальны сами позы и жесты, изображенные на этих листах. Заслуживает внимания то, что движения персонажей на этих сюжетных рисунках далеки от привычных для того времени. Тем самым я хочу сказать, что их родословную нельзя (а если можно, то только с большой натяжкой) проследить до тех персонажей, которых мы находим в большой коллекции, принадлежавшей Рембрандту. Как сказали бы историки искусства, у них нет «источников». В этом отношении они представляют собой разительный контраст тому в высшей степени конвенциональному «лексикону» жестов, к которому прибегал почитаемый Рембрандтом художник, его современник Рубенс [99]. Кроме того, персонажи Рембрандта зачастую довольно неприглядны: они не только наделены некрасивым телом; лишены изящества и их жесты. Можно и в самом деле поверить, что перед нами – те, кто окружал Рембрандта в его мастерской, представляющие некую сцену: они играют, одновременно размышляя, как наставлял своих подопечных Хоогстратен, о том, как бы они повели себя на месте Адама и Евы в данных обстоятельствах, и вместе с тем сознавая, что за ними наблюдают. Персонажи рисунков правдоподобны, но в то же время принимаемые ими позы тщательно выверены. Пожалуй, можно утверждать, что эти беспрецедентные фигуры были порождены не конвенциями искусства, разделяемыми художественным сообществом, а театральными инсценировками, которые практиковал в своей мастерской Рембрандт.
Обсуждаемая здесь природа взаимопроникновения жизни и искусства неоднократно затрагивалась в эпоху Рембрандта в дискуссиях об актерской игре. Историки искусства много спорили о том, как выглядела игра тогдашних актеров. Как соотносились в то время слово и жест, произносимый текст и мимика, поведение актера? Как воспринималась связь между искусством и природой? Какое впечатление – естественное или искусственное – стремился произвести актер на зрителей? Неудивительно, что, судя по сохранившимся свидетельствам, актеры играли по системе строго установленных правил. В таком случае актер представлял собой не автора интерпретации, а исполнителя: «Актер подобен платью, которое портной шьет согласно указаниям заказчика: ему тоже полагается приноравливаться к действию, как того пожелает поэт» [100]. Однако совершенно очевидно, что в ту эпоху существовали и противоположные взгляды на театр и на сущность актерской игры; недаром Гамлет наставляет актеров избегать «невразумительных пантомим и шума» и, напротив, «держать как бы зеркало перед природой» [101], а актеров превозносили за способность всецело перевоплощаться в своих героев [102].
Я вовсе не пытаюсь привлечь произведения Рембрандта для иллюстрации актерской игры в голландском театре. Созданные художником образы свидетельствуют о том, что он рассматривал перевоплощение и исполнение роли как проблему шекспировского масштаба, до которого не поднимаются тексты тогдашних голландских пьес. Если мы хотим увидеть творческие находки Рембрандта его глазами, то должны задать вопрос не о том, как играли в театре той эпохи, а скорее о том, как и что о нем говорили и писали. По крайней мере, в английских текстах той эпохи часто используются определенные характеристики, например lively (живой) и natural (естественный). Хейвуд в своей «Апологии лицедейства» («Apology for Actors») 1612 года восхваляет «игру <…> живую и выразительную <…> словно исполнитель роли и в самом деле есть тот, в чьей роли он предстает на сцене». Это мнение повторяет в том же году Джон Бринсли в своем трактате «Начальная, или грамматическая, школа» («Ludus Literarius: Or the Grammar School»), говоря о том, как надобно обучать школьников pronuntiatio – декламации. Ученикам надлежит произносить каждое слово «отчетливо и естественно», каждый диалог следует проговаривать «с отменною живостию, словно они сами – лица, участвующие в этой беседе», а то, что они еще не могут произнести на латыни, им полагается проговорить вначале «естественно и живо» по-английски. Читая подобные тексты и одновременно глядя на рисунки Рембрандта, мы поневоле испытываем искушение вложить в уста художника указания: «Вот так вы это сыграли», «вот так должны выглядеть персонажи», «вот такого впечатления нужно добиваться» [103].
К счастью, в нашем распоряжении есть несколько собственноручно написанных Рембрандтом слов, посвященных именно этому вопросу, хотя наша радость несколько омрачается ожесточенной дискуссией, которую вызывает