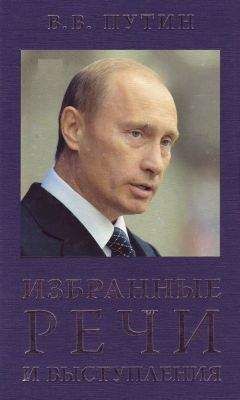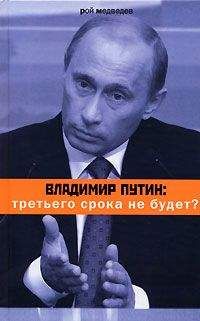Консервативно-умозрительных представлений о казаках как обособленных «бродягах-добытчиках», все идеалы которых - «в чарке горелки», последовательно придерживался и М. Загоскин. Устами Алексея Бурнаша, одного из персонажей романа «Юрий Милославский», автор так характеризовал запорожцев, живших по принципу «где бы ни воевать, лишь бы воевать»: «Эх, боярин! Захотел ты совести в этих чертях запорожцах; они навряд и бога-то знали, окаянные! Станет запорожский казак помнить добро! Да он, прости господи, родного отца продаст за чарку горелки» (24).
Гоголевская идея русско-украинского единства и русско-украинского народного характера выросла из народного эпоса, противостоявшего этим произвольно-охранительным комбинациям (в сознании запорожцев украинцы всегда были родными братьями русских, и казаки перед лицом иноземцев всегда гордо именовали себя русскими), из реальной общности исторических судеб двух братских народов, связанных органичными духовными запросами. «Нет уз святее товарищества! - говорит Тарас Бульба накануне битвы под Дубно, склоняя голову перед братством как «необыкновенным явлением русской силы». - Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не крови, может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей».
Пафос этой «ясновидящей» речи Тараса, несомненно, «вырос» из исторического обращения Богдана Хмельницкого к казакам, приведенного Г. Конисским в «Истории руссов», которую Гоголь признавал единственным «живым голосом умирающей старины». «Я и окружающее меня товарищество», - говорил там Хмельницкий, - есть единокровная и единоверная наша братия; интересы и пользы наши одни суть с пользами и нуждами нашими. Мы подняли оружие не для корысти какой или пустого тщеславия, а единственно на оборону отечества нашего, жизни нашей и жизни чад наших, а равно и ваших» (25).
Историческая достоверность и реалистическая обоснованность образа Тараса Бульбы, выразившиеся в полном слиянии личности героя и народа, сразу же выдвинули гоголевский характер на уровень истинно народных созданий. Говоря о Запорожской Сечи как «источнике героической народной жизни», Белинский отметил, что герой эпопеи Гоголя Тарас Бульба «является представителем этой жизни, идеи этого народа, апофеозом этого широкого размета народной души». Особенно высоко критик оценил беззаветный патриотизм Бульбы, его кровную причастность к народным помыслам, к уму и сердцу народному: «Он любил свою родную Украйну и ничего не знал выше и прекраснее удалого казачества, потому что чувствовал то и другое в каждой капле крови своей...»
Народную удаль, отвагу, верность товариществу продемонстрировал в повести и Остап, повторивший отца, Тараса Бульбу, в главном. Своеобразие характеров, подобных Остапу, по Гоголю, состояло в том, что раскрывались они, как правило, в деле, где были нужные целостные человеческие качества; в поседневно-обычных же условиях они как бы уходили в себя, уступали «сцену» тем вездесущим натурам, которые Тарас называл «мышиными».
В трагической судьбе Андрия, душа которого не только кипела «жаждою подвига», но и «была доступна другим чувствам», Гоголь запечатлел нечто вездесущее, приноравливающееся, ненародное. Пробравшись с мешками хлеба в осажденный казаками город и оказавшись перед прекрасными очами панночки, Андрий вдруг «вознегодовал на свою казацкую натуру». «Вижу, что ты иное творение бога, нежели все мы», - «приобщился» он к панночке, преклонившись не столько перед ее «испепеляющей» красотой, сколько перед чужеземным обликом ее, не содержащим ничего «казачьего». В этом страшном человеческом самоуничижении проявилась сущность отщепенства Андрия, образ которого выступил продолжением выведенных Пушкиным самонадеянно-неустойчивых авантюристов, находивших отраду в приобщении к чужеземному. Порабощенный «инфернальной» красотой, Андрий отрекся от народа своего и родины, от отца и товарищей, предпочтя, если можно так выразиться, эстетическое, «внешнее», духовно-нравственное, корневому. «А что мне отец, товарищи и отчизна!..- припал он к ногам панночки, завороженный ее ослепительной утонченностью, отгораживавшей его от «грубого» казацкого мира. - Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для нее всего...»
В «Тарасе Бульбе» Гоголем оказались сведенными в один фокус народные нравы, этические нормы, бытийные и гражданские устремления, т.е. то, что составляло русский народный характер и волновало писателя в течение всего творческого пути. В конце жизни он дал такое толкование «русской природы», ставшее поэтическим «объяснителем» его народности: «Я сам не знаю, какая у меня душа - украинская или русская. Знаю только, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены... И, как нарочно, каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой: явный знак, что они должны пополнить одна другую... чтобы потом... составить собою нечто совершеннейшее в
человечестве» (24).
Глубина и необычайная «материальность» гоголевского народного взгляда, ознаменовавшие решительное сближение творчества писателя с «жизнью действительной», с «духом народа» (Белинский), вызвали волну (точнее, цепную реакцию) охранительного предубеждения и пуризма, явились условием острейших полемических нападок, довольно выразительно подчеркнувших (так сказать, от противного) народную направленность гоголевских характеристик. В статье «Настоящий момент и дух нашей литературы» Ф. Булгарин, стремясь опровергнуть формулу Белинского: «Гоголь - «певец совершенной истины жизни», «доносил» благонамеренной публике: «Между нами есть писатели, которые, ради оригинальности, коверкают и терзают русский язык, как в пытке, и, ради народности, низводят его ниже сельского говору...» (27). Ему вторили Н. Греч, О. Сенковский, Н. Полевой, причислявшие «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Арабески», «Миргород» к «домашней литературе малороссиян», а героев этих произведений - к созданиям «местного пошиба», не имеющим ни верности, ни полноты, ни смелости» (28). Считая стихией Гоголя «добродушную шутку, малороссийский жарт», Н. Полевой перечеркивал в «Тарасе Бульбе» те места, где «запорожцы являются героями». В «Очерке русской литературы за 1838 год» он отмечал: «Гоголь «просто несносен, когда его казаки начинают... геройствовать» (29). Точку зрения Полевого «по-своему» развивал Шевырев. «В Гоголе мы видим существо двойственное или раздвоившееся, - писал он, отрицая в «Мертвых душах» национальную основу. - Поэзия его не цельная, а двойная, распадшаяся» (30).
Аналогичное восприятие гоголевской народности без особых уточнений переняла и либеральная критика. В. П. Кулиш, один из первых биографов Гоголя, опубликовавший в 1855-1861 годах ряд содержательных материалов о творческой истории «малороссийских повестей» писателя, отнес «Тараса Бульбу» к «миражу казатчины», а персонажей эпопеи - к надуманным фигурам, не имевших «исторической и народной истины». «Казачий потомок был преисполнен веры в то, что существовало только в воображении фанатиков» (31), - заметил он в письме к В.И. Шенроку. Сам В.И. Шенрок, подготовивший фундаментальный свод «Материалов для биографии Гоголя» в четырех томах, считал, что народно-поэтический и мистический «элементы», вошедшие в гоголевские характеристики, увели писателя далеко за пределы исторической действительности» и, следовательно, свели на нет их познавательно-реальную значимость (32). В образах «Тараса Бульбы» и других произведений «нет и одной десятой трезвости» (33), подтверждал выводы Шенрока А. Скабичевский.
Крайне несвободными от конструктивно-формалистических воззрений оказались и исследования И. Мандельштама, Д. Овсянико-Куликовского, В. Гиппиуса, А. Слонимского, Ю. Тынянова, В. Переверзева, вычленивших народную основу из гоголевской эстетики и сосредоточивших внимание на условном, иррациональном в ней. И. Мандельштам, например, усмотрел в творческом методе Гоголя сплошные «всплески выдумки» и «неимоверный гиперболизм», не заключавший ни «задатков жизни», ни ее «реальных контуров» (34). В. Гиппиус и А. Слонимский обнаружили одни «непомерные тени», образуемые «причудливым лучом народной фантастики» (35). Ю.Тынянов уловил в «скрове» наиболее пафосных гоголевских мест - карикатуризм, «материал для пародии» (36).
Д. Овсянико-Куликовский - «преобладание траты над накопленным, дедукции над индукцией, интуиции над знанием, пониманием» (37). Для В. Переверзева народность гоголевских героев явилась также не чем иным, как «подделкой», красивой стилизацией», пронизанной «абстрактностью». В работах о Гоголе Переверзев красной нитью провел мысль о том, что идея народности к писателю совершенно «неприложима», поскольку он, Гоголь, всю жизнь черпал вдохновение не в народе, а в среде «мелкопоместных душевладельцев» и создал не галерею народных характеров, а вереницу «существователей», наряженных в «партикулярные платья» и «казацкие свитки» (38).