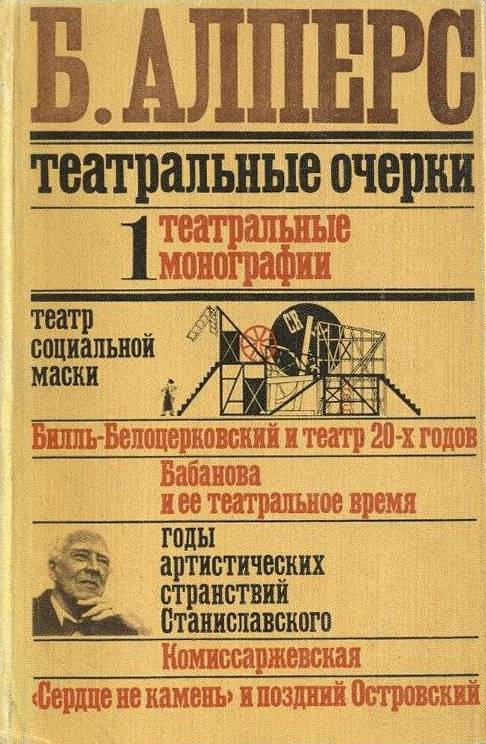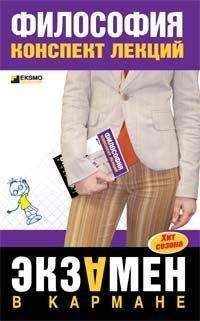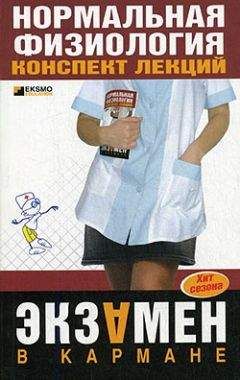вульгарным языком, непристойным сценическим действием и стремлением угождать вкусу публики, а также само новое здание, специально предназначенное для постановки подобных пьес, есть недвусмысленные свидетельства неблагополучия театра. У Пелса был и еще один повод разгневаться, ведь в предисловии к своей «Медее» 1667 года Вос ополчился на горацианские правила сочинения драматических произведений, утверждая, что пьесы, в отличие от архитектуры, не обязаны следовать жестким канонам (на чем настаивал Пелс в своем стихотворном трактате), но должны исполняться не столько для слуха образованных, сколько для глаз «обычной публики», хотя последнее он и не проговаривает непосредственно [120].
В поэме, озаглавленной «Битва Природы со Смертью, или Торжество Живописи» (1654), Вос превозносит Рембрандта как первого из череды амстердамских художников; другое стихотворение он посвятил картине Рембрандта, находившейся в одной из амстердамских коллекций. Однако нет никаких надежных свидетельств, которые позволили бы заключить, что драматург и живописец были хорошо знакомы; никаких убедительных параллелей нельзя провести и между пьесами одного и картинами другого [121]. Пелс обсуждает творчество Рембрандта в трактате о театре, направленном против Воса и его единомышленников, а значит, косвенно возлагает вину за потворство низменному вкусу и на живописца. Интересно здесь само то, по каким признакам художник уподобляется драматургу. Пелс прежде всего озабочен правилами, которым должно подчиняться искусство, и критикует привычки Рембрандта: выбирать простую «земную» женщину в качестве модели, доверять собственному глазу, выискивать костюмы для своих произведений на улицах Амстердама. Свои предубеждения против сценических приемов Воса он распространяет на приемы, бытовавшие в мастерской Рембрандта. В результате проблема, поднятая сочинением пьес для театра, совершает в классицистической критике довольно неожиданный поворот: имя Рембрандта упоминается в дебатах о современном ему театре не иначе как с упором на театральную практику, то есть на аналогию, пусть и не проводимую прямо, между театром и мастерской художника.
Я предположила, что Рембрандт добивался эффекта «реальной» жизни посредством инсценировок, устраиваемых в мастерской. К такому выводу о художественной практике Рембрандта мы пришли, проанализировав немногочисленные, но весьма показательные живописные и графические образцы трех типов: изображения персонажей нарративных картин, которые играют какую-то роль; изображения художника, предстающего актером на своих автопортретах; изображения учеников, разыгрывающих сцены для рисунков на библейские сюжеты. Мы приводили примеры из художественной практики мастерских и интерпретировали в театральном ключе фразу Рембрандта о «естественности движений», что, с нашей точки зрения, соответствует его собственной художественной практике. Затем мы процитировали тогдашних теоретиков искусства, чтобы показать, насколько широко в ту пору было распространено восприятие Рембрандта в театральном духе, а также для того, чтобы особенно рельефно выделить в свете особой театральности Рембрандта дискуссионный характер его искусства.
Следствием, так сказать, обратной стороной той сценической игры, в которую вступает художник, воображающий себя моделью и натурщиком, является осознание того, что позировать означает играть и что позирование само по себе есть исполнение роли или нарративное, сюжетное действие, которое можно запечатлеть. Позирование есть своего рода представление не только для актера, того, кто совершает это действие, но и для наблюдателя, того, кто вы полнил рисунки, на которые мы смотрели. Говоря так, мы утверждаем, что актером является не только автор, художник: в своих моделях в момент позирования он тоже видит актеров. Речь здесь не только о группах, инсценирующих тот или иной сюжет, но и о тех отдельных лицах, натурщиках или заказчиках, которых Рембрандт изображал в мастерской. На иных рисунках и офортах, запечатлевших натурщиц, художник показывал расстегнутую, сброшенную одежду этих женщин или печь, которую он топил, чтобы они не замерзли (ил. 67). Луврскую «Вирсавию» можно описать как созданный живописными средствами памятник женщине, играющей роль обнаженной модели [122].
Посмотрим на картины, запечатлевшие Саскию (ил. 68, 70). Она изображена в удивительных одеяниях – некоторые из них идентифицируются как принадлежность иконографии тех или иных мифологических персонажей, например Флоры. Как создавались эти образы? Я намеренно избегаю вопроса о том, что они означают. Нам остается только принимать обычную практику Рембрандта и гадать, можно ли считать Флору некоей ипостасью Саскии, или наоборот, а картину – портретом, историческим полотном, или же чем-то средним между ними, portrait historié. На ум приходят два совершенно разных объяснения. Во-первых, можно предположить, что Саския любила принарядиться, и Рембрандт всячески поощрял ее пристрастие. Жемчуга, в которых она запечатлена на картине, наверняка были подарены Рембрандтом и позднее стали предметом ожесточенного спора с Гертье, после смерти Саскии занявшей ее место. Во-вторых, это типичная картина с изображением члена семьи художника: многие живописцы той эпохи использовали в качестве моделей родственников. Например, сестра Терборха изображала добродетельную супругу за прялкой – именно в таком облике ее запечатлел брат (ил. 69). Попросив сестру позировать, Терборх ожидал, что она сыграет определенную роль [123].
Можно предположить, что, изображая Саскию, Рембрандт пытался передать совокупность подобных смыслов, играя с перформативной природой позирования, но одновременно размышляя и о театральной, иллюзорной природе персоны, запечатленной таким образом на полотне. Рентгеновский снимок показал, что Рембрандт сначала изобразил Саскию в образе Юдифи с головой Олоферна и лишь потом превратил ее во Флору. Второго персонажа за ее спиной он закрасил, и нельзя исключать, что в правой руке она изначально держала изогнутый меч. Согласно книге Ветхого Завета, Юдифь сперва предстала перед Олоферном в облике доступной блудницы, а затем, обернувшись грозной мстительницей, обезглавила сладострастного полководца. Рембрандт словно излагает события библейской истории в обратном порядке, отнимая у Саскии меч и преображая вооруженную воительницу в женщину, дарующую наслаждение. Сомнения по поводу того, мог ли Рембрандт показать Саскию в образе Юдифи, развеялись, когда под верхним слоем кассельской «Саскии в красной шляпе» было обнаружено записанное изображение руки, сжимающей кинжал, а под фигурой нью-йоркской «Беллоны», для которой, вероятно, позировала та же Саския, – изображение обнаженной женщины [124].
Эти картины напоминают те, для которых Викторина Мёран позировала Мане (ил. 71, 72). Если учесть, что речь идет о традиционном для нашей культуры мужском представлении о привлекательном образе женщины, отнюдь не случайно, что два амплуа Мёран – эспада и Олимпия – весьма родственны тем, в которых появлялась Саския. Однако подоплекой их картинного, живописного сходства является то, что и для Мане, и для Рембрандта позирование непременно предполагало исполнение роли. Как и свойственная обоим художникам чуткость к материальности красочного слоя, это было связано с их стремлением вобрать весь мир в свою мастерскую с ее красками и моделями, привив созданию картин подобную студийную практику. Поэтому не так удивительно, как может показаться на первый взгляд, что целый ряд европейских живописцев, которых мы объединяем в особую