Солженицын рассказывает, а рассказ-то для Франца Кафки. Мужчина (сентябрь 1937 г.) направлялся в станционный буфет. Но его остановила молодая энкэвэдэшница и завела в Особый отдел (больше он ее никогда не видел). После многолетней отсидки он реабилитировался; в его Деле была всего одна фраза: “Задержан при обходе вокзала”.
В пятидесятые годы мужчины у нас летом носили шелковые рубашки с коротким рукавом, чаще всего апаш (воротником “апаш”). Мне такую в подарок привезла из Москвы тетка — салатового цвета, я был в ней на выпускном балу после 7-го класса. Потом шли, помню, по проспекту Ленина и пели “Подмосковные вечера”.
В такой же бобочке, только розовой, был и первый напечатавший стихотворение Рейна редактор; у этой бобочки был несвежий воротничок “цвета гнилой розы”. Поздний Рейн болезненно разгончив и рыхл, но стихи (в “Новом мире” лет 5 назад) про эту первую публикацию — памятны и уже потому — превосходны.
15 марта, воскресенье.
“Арх. Гулаг” — в сознании моего (и след.) поколения так и запечатлелось: книга, которая опрокинула советский режим; один человек — победил систему. Во всяком случае она раскалила 70-е годы так, что “процесс пошел” и до бесславной гибели “совдепии” остался десяток лет. Каждый читал эту книгу по-разному. Я — в метро, демонстративно ничем не прикрыв обложки (и несколько раз ловил на себе округлившиеся от изумленного страха глаза). Молодой советский карьерист К. был тогда в Нью-Йорке, читал “ГУЛАГ” по-английски, боялся оставлять книгу в номере и прятал где-то под жестью во дворе отеля.
Обществу надо было сильно опуститься (как оно и опустилось), чтобы сегодня писательница Улицкая могла, не стесняясь, отзываться об этой феноменальной книге — пренебрежительно.
“И всех Иванов злобы” (Ахматова). Да разве стояли когда “Иваны” на стороне справедливости? Псковичи послали Ивану III жалобу на нестерпимые бесчинства “наместника”. Иван переслал ее назад “самодуру”, а тот жалобщиков всех перебил. Были в нашей (и мировой) Истории — истории пострашнее, но почему-то именно эта особо острой занозой засела у меня в сердце.
17 марта, 9 утра.
Снилось: перестоявшие ирисы, их блекнущая лиловая стружка. (Помнится, любимые цветы Пастернака — когда они, естественно, в яркости, силе.) И я говорю кому-то, мне неизвестному: “Тогда Илюша решил воспользоваться единственным своим оружием — уступчивостью”.
Ольга Седакова (“Вестник РХД”, посвященный памяти А. И. С.): утверждает, что если европейская литература споспешествовала смягчению социальных нравов, то наша — нет. Ох, плавает, плавает моя компаньонка по получению Солж. премии в истории отечественной литературы и культуры. “Власть, от которой у нас зависит все, никогда ничего этого не читала (?!) и ничего общего не имела с великой словесностью собственной страны”. Че-пу-ха. Просто не веришь своим глазам: что за поклеп? Цари, вел. князья, двор — взахлеб читали и Пушкина, а тем более Толстого, Достоевского, Лескова, Чехова, да даже и Салтыкова-Щедрина — неужели многознающая Седакова ничего про это не слышала? То, как у нас власть читала литературу, — высокий своеобычный феномен России. “Ничего общего не имела” — что за чушь? Под скипетром монархии наша литература и состоялась — не вопреки, а благодаря имперской российской власти.
“Социальное достоинство человека всегда было унижено у нас намного больше, чем в любой другой среднеевропейской стране”. Но вот Н. Лосский свидетельствует, что, оказавшись в начале 20-х годов на Западе, русские беженцы были смущены, поражены европ. взяточничеством, о котором в России уже забыли. Седакова валит в одну кучу Россию и совдепию, простегивая сквозь них одни и те же черты, хотя разницы (причем принципиальной), конечно, намного, намного больше.
Никак не могу, не хочу признать, что всегда в России была порочная непросвещенная власть, вопреки которой состаивалась культура. Это из советских или диссидентских учебников?
Чувство юмора у Солженицына — грандиозное. На Калужской он сидел с мужиком Прохоровым, а тот рассказывал:
“Делаешь в сельсовете доклад, и хоть разговор в деревне больше материально сводится, но подкинет тебе какая-нибудь борода: а что такое пер-ма-нент-ная революция? Шут её знает, какая такая, знаю, бабы в городе перманент носят, а не ответишь — скажут: вылез со свиным рылом в калашный ряд. А это, говорю, такая революция, которая вьётся, льётся, в руки не даётся, — поезжай вон в город у баб кудряшки посмотри или на баранах”.
Уровень юмора Достоевского. Какова художественная обработка прохоровского рассказа спустя четверть века!
24 марта.
В Бретани оттенки ранней весны не столько зеленоватые, как у нас, сколько розово-золотистые — еще до зелени расцветает вишня, мимоза, дрок. Столько мимозы цветущей — еще никогда не видел. И — заплесневелый, замшелый (тоже золотистая мшистость) ракушечник храмов… Ужинали на холодных ресторанных верандах — в виду маяков и моря.
У таксиста говорило какое-то непонятное радио.
— Простите, это на каком языке?
— На кельтском.
— Знаете кельтский?
— Да нет, не знаю. Но так приятно слышать родную речь! Я горжусь, что у нас есть свой язык, пусть даже мы его и забыли.
В Кемпере — гогеновское “Видение после мессы” и еще несколько привозных шедевров (например, “Fеte Gloanec” — из Орлеана). “Видение” завораживало меня еще в Рыбинске — в книге Ревалда. Но на всех репродукциях (а я за 50 лет видел их, разумеется, несметное множество) разный красный — от сурика до чуть ли не оранжевого или аж с бордовым оттенком. Так что заинтригованный еще и поэтому, шел я на выставку. Коралловые, оказывается, оттенки. Поразительная картина. С негогеновской духовностью.
Похожего оттенка красный и на “Празднике Глуанек”. Как в Рыбинске на дурной открытке не понимал, что там лежит справа вверху над вишнями за штука, так не понял этого и глядя на подлинник.
…Мария Глуанек — хозяйка пансиона, где жил Гоген с товарищами. А вчера обедали мы у ее правнука Ива Глуанека — в доме на холме визави мельницы (пришлось в Великий пост оскоромиться). Сильный колоритный старик.
В 80 ездит путешествовать по пустыням (и спит там на открытом воздухе, глядя на космос).
Понт-Авен теперь — город пенсионеров. Славные консервные заводы позакрывались. Молодежь ушла в города крупнее. И церкви пусты, разве что в праздники в них старики и ходят.
Вечером в розоватые сумерки — с Глуанеком на кладбище. У фамильной плиты с крестом.
— Сейчас большинство завещает, чтоб их кремировали. (Крематорий в 30 км от Понт-Авена.) А я не хочу. Не по-христиански это.
В саду месье Глуанека. Камелия, оказывается, — мощное хорошее дерево, в пору цветения (сейчас) густо усыпанное розовыми, но вовсе не слащавыми цветами. А в стихи не возьмешь. Из-за названия: разом и дамского и карамельного.
29 марта, утром.
Всегда удивляет, когда узнаешь, что на новейших европейских классиков оказывали влияние наши — послетолстовского времени. Так, Кафка вдруг упоминает в дневниках Кузмина. А Маргерит Юрсенар, оказывается, смолоду зачитывалась истор. романами Мережковского.
30 марта, понедельник (вечер).
Аверинцев свой отъезд объяснял мне так: “У меня здесь нет, в сущности, учеников, перед которыми я был бы ответственен”. Я в то время (1995?) его не понял. А вот теперь мне стало это яснее.
— Но ведь вы же принимали участие в политике во второй половине 80-х. Следовательно…
— А, — махнул он рукой, — это была формальность. На Верховном Совете меня, можно сказать, к трибуне не подпускали, у них (видимо, у “демократов” первого призыва) там было все схвачено, договорено, отрежиссировано, перемигивались, друг другу делали знаки и на трибуне оказывались один за другим. На меня не обращали внимания.
Из поздних, завораживающих натюрмортов — яблок и груш на фоне пленэра — Курбе (их, кстати, в России, по-моему, не знает почти никто) — “сфокусировались” постимпрессионисты.
“Зеленый Христос” Гогена. Можно сказать, тут Гоген провалился с треском. Сразу стало ясно, в какую “мазню”, в сущности, выродилось искусство — после Распятий и Снятий с креста прошлых столетий.
Никита Михалков дал интервью “Известиям”: “Мой папа чистый, честный человек, гениальный детский писатель. В музее Сталина в Гори он оставил такую запись: „Я ему верил. Он мне доверял. Сергей Михалков””.
Маргерит Юрсенар: “Вот уже долгие годы не бывает дня, чтобы, проснувшись утром, я прежде всего не подумала о том, что делается в мире, чтобы на мгновение почувствовать причастность ко всему существующему в нем страданию”.
С этим же просыпались Достоевский, Толстой… А с какими мыслями просыпаются наши гаврики-литераторы? С мыслями о себе, любимых, и где какие подгрести еще под себя бабки и оттеснить “конкурента”.

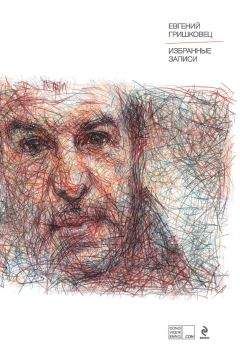
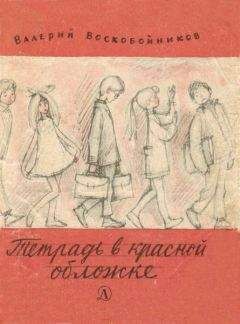

![Александр Солженицын - Русский вопрос на рубеже веков [сборник]](https://cdn.my-library.info/books/132120/132120.jpg)