“Новое искусство <…> перейдет от тел материальных к телам душевным”. Мать честная, впору перекреститься (Н. А. Бердяев, “О русских классиках”).
Православная Пасха на Западе (Париж, Кламар, Ницца, Ренн) — в последние годы.
В пасхальную ночь особенно заметно, сколько плебса понаехало из бывш. соцлагеря в цивилизованный мир. На Пасху эта мутнота собирается ночью в храм пообщаться. В Ницце породистые осколки прежнего — и новорусские рожи. Еще хуже в Ренне. Отец Иоанн служил хорошо, славно и вдохновенно; “смерть, где твое жало?” — и по-французски прозвучало, пробирая до костей; но в храме толклась кучка то ли румын, то ли молдаван — переговаривались, гоготали и даже — принесли мяч и во дворике его пинали. Это, видимо, были папаши детей, которых бабушки или мамы привели причащать. Я не выдержал и делал им замечание дважды. Огрызаются. Возле настоятеля — хор, ему не слышно. А на задах церковного зальчика обстановка как в солж. рассказе про крестный ход в Переделкине. Но, несмотря и на это, — осталось от Пасхи светлое и славное чувство.
А наутро воскресенья заглянул в городской собор. Уйма прихожан! Не только все лавки заняты, но и стояли в нефах и проходах, и много молодых пар с колясками. Жива, оказывается, провинциальная католическая Франция! Вот здесь — в Бретани. Как в Польше.
Трагедия современного католичества особенно ощутима в какой-нибудь сувенирной монастырской лавке или в местах паломничества. Какой низкий уровень предлагаемого — с художественной точки зрения, какое жалкое — в детской литературе и ее иллюстрациях — подражание комиксам и масскультуре. У нас-то хоть подражают “сладким” изданиям дореволюционного времени — и в этих стилизациях есть своя трогательность и сказка. А тут… полный разрыв религии и культуры (которой просто не стало, ушла в дизайн и обслуживание потребителя).
Зарождение абстракционизма.
В Арле Гоген посоветовал Ван Гогу работать не на натуре — “по памяти”. Винсент сразу понял, к чему склоняет его этот змей-искуситель, — работать, не имея перед глазами стимула непосредственно наблюдать за состоянием природы, натуры — значило делать… “абстракции” (!). Ван Гог, очевидно, первым обозначил тут это художественное направление, ставшее вскоре столь перспективно-тупиковым. “Когда Гоген жил в Арле, я раз или два позволил себе обратиться к абстракции <…> и в то время абстракция, казалось, открывала мне чудесный путь. Но это заколдованный круг, старина, и человеку быстро становится ясно, что он уперся в стену” (письмо Бернару, 1889).
Кстати, слухи о нищете Ван Гога там — преувеличены: Тео посылал ему раз в месяц сумму, равную двум месячным окладам учителя. “Малларме, будучи учителем английского языка, никогда не получал больше той суммы, которой пользовался Ван Гог” (Ревалд).
25 апреля, суббота.
В Конкарно по набережному променаду простой дядька рабочего вида, вихрастый, полуспитой и в мешковатых штанах выгуливал славного большеголового пса, видно сразу, что мудреца. Оказалось, взял его по объявлению из приемника для беспризорных собак. И, чувствуется, с достоинством гордится своим питомцем.
Каждый полдень звонит понтавенский колокол, не скажу, что мелодично, но, правда, зазывно. По ком звонит колокол? Видимо, по понтавенской же церкви, которая всегда на замке.
Снилось: уходящая далеко в точку дворцово-барская анфилада с торфяной по щиколотку водой, сквозь которую просвечивают широкие неровные доски постланного, видимо для ремонта, настила. За окном в саду шорохи: там, оказывается, живут одичавшие потомки барских левреток.
Мандельштам в своем позднем “кольцовстве” пришел к какой-то новой народности (которую искал и прежде, возможно — через свое “эсерство”). Но слишком велика была интеллектуальная составляющая… О. М. — народник от культуры, а не от органики, не от воздуха — и это, разумеется, объяснимо вполне.
При советской власти само собой разумеющимся было первым делом поделиться написанным — с товарищем, коллегой, собутыльником, с находящимся с тобой рядом по жизни. Ничего подобного нет теперь: у Наймана, Лиснянской и проч. выходят книги, новые публикации — и я узнаю об этом со стороны. Инна буквально — в последние годы — завалила книжный рынок новыми книжечками — одну я купил в Париже, другие видел промельком, полуслучайно. Соответственно и я никому никогда не пошлю новых стихов: отношения отдельно, творческая деятельность отдельно. Почему? А потому что все мы стали хуже, не верим в доброжелательную расположенность по отношению к творчеству друг друга. Еще один горький симптом культурной деградации общества. В Париже жил у меня Гандлевский; мы ни разу не заикнулись о своей поэзии, словно это даже и неприлично. А когда-то (1976 г.) в Кириллове, помнится, все было ровным счетом наоборот.
Творческая деятельность превратилась в деятельность, с которой знакомить друга не обязательно, она словно за скобками отношений.
26 апреля, воскресенье.
К нам в Париж приехала жительница Поленова Нина и рассказала, что на днях нашли там недалеко от ворот тушу кабана с пятачком, перетянутым проволочной петлей капкана. Несколько дней бродил по окрестностям, пугая местных собак, пока не умер от истощения и жажды.
Механическая, точней, бессмысленная прерывность бытия, страшно.
Говорили вчера с Н.: шизофреники, неврастеники живут двойной жизнью, и приходится ежиться, когда вдруг замечаешь, что подполье их проступает вдруг на поверхность, несмотря на свою тщательную скрываемость.
Герой французской литературы — авантюрист, который ради материально-карьерных соображений идет на все, — в литературе русской был бы не иначе как тем, кем он и является на самом деле, — проходимцем. Этот имморальный “архетип” сохраняется и в новейшем франко-американском фильме “Коко Шанель”; возьмите Коко и любую русскую героиню и — почувствуйте разницу. (Здесь — разница культурных традиций, а не эпох.)
Саша Любимов прислал мне рекламный проспект нового своего мегапроекта: популярный советский многосерийный детектив из времен Второй мировой войны “Семнадцать мгновений весны” под его, как я понимаю, чутким руководством раскрасили и переозвучили. Ну, обыватели вылупят, разумеется, зенки — Штирлиц с голубыми глазами!
На Западе так, кажется, поступают: раскрасили, например, комедийную костюмированную мелодраму “Фанфан-тюльпан” (помню, в Рыбинске штурмом брали дверь кинотеатра “Артек” ее фанаты, и я лет в 12 — 13, как беспризорник времен Гражданской войны, яростно среди них толкался. Но вдруг уже в дверях билетерша-сука меня заметила, сорвала с головы ушанку и отбросила далеко назад. Тогда, с такой же яростью, уже весь растерзанный и мокрый от пота, я стал пробираться в противоположном осаждающей толпе направлении).
2 мая, суббота.
День рожденья встречен был скромно: разной интенсивности не останавливающийся ни на минуту дождь в Понт-Авене никуда не пустил. Днем визави гогеновского фонтанчика съел сэндвич с яблоками и камамбером и запил сидром. А вечером — в гостях в Кимпере…
Когда первого утром выезжали из Понт-Авена, сначала — в Тремало к средневековой замшелой церкви с лишаем на камнях, где “гогеновское” распятие. А там — служба, какая бывает по воскресеньям; на две трети заполненная церковь; без молодежи… В Бретани на смену мимозе, местному “дроку”, камелиям — пришли сирень (белая и лиловая), яблони, вишня. “Суровая” Бретань на деле цветная, яркая — начиная с конца марта, даже со второй его половины.
6 мая — именины.
Сон: рассвет в обширной лесисто-заболоченной местности. От полной темноты — через усиливающуюся розоватость — к золотой заре. Только вот маленькие то ли слепни, то ли оводы больно кусали в шею.
7 мая.
Скончался в США Лев Лосев (последнее электронное письмо от него было в прошлом году). Я гостил у него в Нью-Хэмпшире — накануне поездки к Солженицыну, волновался, он, видимо, решил меня подбодрить. Рассказывал, что в Вермонтской летней школе каждый год встречается с Н. Д. Солженицыной. Он, Алешковский, Борис Парамонов и проч. “Вообще-то она наша”, — сказал вдруг Леша.
Это все было в первые два-три эмигрантских года. Я был восторженный и глупый салага — прямо из “церковной сторожки”, прекраснодушный антисоветчик.
Леша был гуманист-агностик с сильным, как у многих, еврейским пунктиком. (Т. е. возможный антисемитизм был постоянной настороженной составной его повседневного мирочувствования.) Любил рассказывать, как еще в детстве с отцом (детским поэтом Лифшицем) в гостинице оказались они в толпе говорливых немцев, “переглянулись и поняли друг друга без слов”. Что поняли? Об этом собеседник тоже должен был понять сразу и сам.
Но однажды Леша все-таки напрямую обратился с просьбой к христианскому Богу. Дело было после эмиграции в Риме, где он с женой и двумя детьми бедствовал после Вены, дожидаясь отъезда в Штаты. Ни копейки в кармане, и он в отчаянии вошел в первый попавшийся на пути храм. (“Католический?” — по инерции глупо спросил я.) В общем, “если Ты есть, помоги”. Вернулся “домой” в какой-то беженский номер, а там письмо от Иосифа. Вскрыл конверт — а там сто баксов. Вроде “Ты есть” даже и подтвердилось. Но для Леши продолжения не имело. Сильно пьющий “экзистенциалист” — “джентльмен в полном смысле слова”, как определил его в некрологе, присланном мне по электронке, Гандлевский и — не удержался, назвав его “гениальным поэтом”. (Так же в некрологах называли и скончавшихся в последний месяц Парщикова и Генделева. Какой-то мор в последнее время на гениальных русских поэтов.)

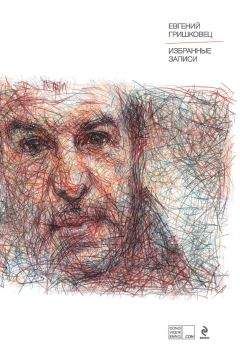
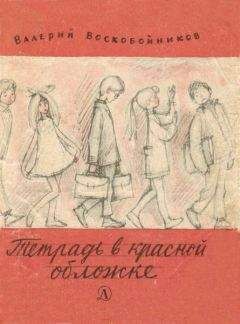

![Александр Солженицын - Русский вопрос на рубеже веков [сборник]](https://cdn.my-library.info/books/132120/132120.jpg)