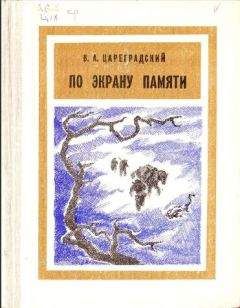по краям, как осенние облака.
Однажды в миг, когда замер и побледнел княжич, в небе, прямо над его головою, словно ударилась об столб и камнем рухнула вниз ворона, переломав себе об землю хребет и крылья.
Старый Богит целую ночь простоял на валу святилища. При свете четырех огней-костров, зажженных на четырех сторонах света и сходившихся в озере спицами медленно катившегося в гору колеса, он всматривался в священное озеро. Ему никак не удавалось прозреть, что же такое сделали ромеи с Туровым княжичем и ради какой своей пользы.
Он заглянул и в тот день, когда последыш едва не утонул в полынье, и княжича, мокрого и озябшего, принесли в кремник. Князь Хорог после того долго стоял на веже, лицом к богатому и древнему Царьграду, а потом пришел к жрецу и сказал, что пора настала. Сами ромеи предложили ему осенью договор: они обучат своей ромейской мудрости любого из его сыновей и будут хорошо платить за долгий союз против валахов, булгар, а заодно -- и против уличей с тиверцами*.
-- Провижу, придет день -- сядет он в Царьграде высоко. Раз тут самого водяного одним денаром со сна поднял,-- говорил князь, а видел перед собой не Богита, а тот край земли, до которого смог достать взглядом с полуденой вежи града.
Старый жрец Даждьбожий молчал, пока в глазах князя не засверкали холодные зарницы, а из его ноздрей не стали валить паром те слова, что он еще сдерживал в себе и не хотел говорить Богиту.
-- Отдаешь сына, как мертвого. Боишься его, князь,-- изрек Богит.-- То боишься, то каешься. Вот и хочешь отдать. Пускай река уносит.
-- Что речешь, старый! -- Брови княза-воеводы сошлись тучами.-- Взять не мне Царьград, а ему. На то вещий сон был. И твое слово, старый. Отречешься ли от своего вещего слова?
-- От слова не отрекусь. Мое слово -- моя вина,-- отвечал Богит, видя внутренним взором, как распадается сеченное надвое яйцо.-- Мое слово -- твой сон. Иные северские роды с твоего слова узнали: не от добра умерла княгиня, но -- к добру твоему, князь. Потому и не прокляли нас вдоль по всем межам. Однако же глас Даждьбожий молчал, а к самому Перуну-богу ты ходок, князь*. Ты и ведай. А только сына отдавать ромеям -- вновь не к добру.
-- То и ведаю, старый,-- надвигался сверху князь,-- что сын -- м о й, и виру сам за него положил в своем же роду немалую. То и ведаю, что Тур-князь ходил до Царьграда, да не дошел. А мой третий сам Царьград вирой возьмет за мать свою... коли за Полем ромеи на меня скверну накинули.
Вечером, когда князь Хорог ушел, а Солнце последний раз отразилось в священном озере, ослепив до полуночи красные зрачки его глубины, Богит вдруг увидел, как по его поверхности порывом ветра проносится день, который еще не наступал и наступит нескоро. Там град Туров, словно оставленный кусок мяса мухами, весь кишел золотыми ромейскими денарами.
Еще глубже заглянул Богит в озеро -- в те дни, что были оставлены-вылиты из глаз жрецами-пращурами.
Он смотрел в те дни, когда по землям скифов и венетов прошел странник из далекой полуденной страны Галилеи. Странник называл себя именем Андрей и говорил, что несет на полуночный край земли сердце, сотканное, как полотно, и скованное, как кольчуга, из слов Бога. Из тех слов он собирался построить там нерушимый город, вокруг которого будут вечно плодоносить поля и деревья. В сам город никогда не смогут войти ни моры, ни лихорадки, и всякий человек, кому хоть раз в жизни доводилось проливать слезы от беды и горя, безо всякого труда найдет в тот город дорогу, а в его сияющих на весь белый свет стенах -- вечное утешение.
Над головой странника всегда стояла маленькая радуга, а его тень на пядь не касалась земли и оставалась ослепительно-белой как днем так и ночью. На закате его тень сама собой рассекалась крестом, начетверо, указывая на все стороны света. Странник звал всех недужных наступать на свою чудесную тень, и те, кто осмеливался ступить на нее, выздоравливали в мгновение ока.
В тех лесах, где он проходил, леший терял свой ветер, как теряет дерево листву по осени, и все украденные им дети сами приходили домой с кошелками грибов, весело смеясь по дороге. На перекрестках дорог навстречу чужеземцу выступали заложные покойники* и, увидев его, собственными руками опускали свои веки и навсегда исчезали под землей, съезжая в глубину, как на салазках по снежному склону. На болотах от его дыхания гасли болотные огни, а на полях целый год серпы и косы не попадали на камень.
Те, кто, слушая речи странника, прошел следом за ним хотя бы три шага, а потом отстал, на три года забывали все обережные заговоры, и, однако, к ним не приставала никакая нечисть.
По дороге, в трех племенах, странник заглянул в озера святилищ, куда жрецы приносили по каплям -- иногда соленой воды, иногда крови -- свои дни. И вот что случалось там: озера высыхали и красные зрачки бездны в тех местах слепли навсегда, покрываясь бельмами из ила или известки. Жрецы же сразу теряли всю накопленную веками память и, к концу дня придя в себя от испуга и беспамятства, вынуждали странника скорее покинуть их земли и больше никогда на них не возвращаться.
Странник говорил, что послан Богом, Который поцеловал его на прощание, как живой человек. Он говорил, что его Бог не стоял вкопанным и безмолвным древоликим столпом, а ходил по всей земле, исцелял недужных, а потом принес себя в жертву и был Сам распят на сухом древе, положив Собою полную виру* за любую вину каждого, кто жил в прошлом и будет жить в грядущем.
Первыми захотели идти вместе с инородцем на край земли, строить светлый город, те, у кого предок в одном из колен приносил собою полную