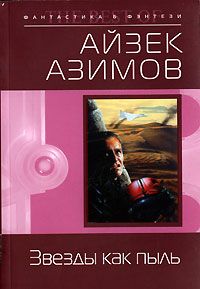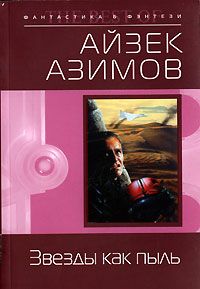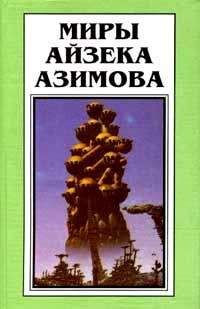Я часто смотрю на людей. Мне их жалко: они совсем ничего не понимают.
Ездят в этих дурацких поездах. С ума сойти. Мне бы никогда не пришло в голову ездить в метро. Метро — не для этого.
В метро хорошо петь. Тут звук хороший. Вы знаете, о чём я. Это когда поезд ещё не пришёл. В промежутках. И по ночам.
В последние годы сюда по ночам всякие ходят.
Однажды пришли сразу человек десять: молодые все, глупые. Говорят: дед, давай мы тебя подожжём и посмотрим, как ты будешь умирать.
Дураки.
Человек, у которого нет времени, не может так вот запросто умереть. Я бы давно уже умер, если бы это было так просто. Ну давайте, говорю, поджигайте.
Они и стали меня поджигать — зажигалкой. А я пел. Ну, они, конечно, потели — то с одной стороны подожгут, то с другой. А я не горю. Тогда они меня побили немного и ушли.
Тупицы.
Они думали, мне будет больно. Но мне не бывает больно.
Вот если бы я был таким, как ты, Хэндерсон, мне было бы больно. Почти все время. Мы пели, и я видел, что тебе больно. Больно жить. Больно болеть. Больно умирать.
Если бы тебя подожгли, ты бы сгорел как спичка.
Хорошо, что ты умер от удара током. Хорошая смерть.
Я не знаю, почему люди так глупы.
Может быть, вы знаете?
Что, уже всё готово?.. Ну давайте. Давайте сюда эту хреновину. Куда петь? Прямо сюда? А вы не хотите? Ну чёрт с вами, сам спою. Слушайте:
Вальс. Мортон кружит по комнате, сжимая в объятиях нимфу. Нимфы в комнате нет, но Мортон об этом не знает.
Возможно, он об этом позабыл. Возможно, когда это начиналось (вальс!), он ещё помнил, что один-одинёшенек в комнате, но за четыре минуты и тридцать три секунды стремительного кружения мир существенно переменился.
Запомни, Мортон: если ты вальсируешь в пустой комнате — четыре на три метра — в трусах и майке, с потухшей сигаретой в зубах, без очков (полуслепой), стало быть, у тебя гости.
Стало быть, у тебя не просто «все дома», у тебя дома даже те, кого ты сегодня не ждал, о чьём существовании не догадывался всего каких-то]М-дцать минут назад.
О нимфе: её не видно (что, вобщем-то неудивительно), зато а) хорошо слышно, как шелестит платье, характерный шорох, я бы сказал — соблазнительный и б) запах духов: этот запах ни с чем не спутаешь, так пахнут хорошие духи — не в магазине, и не так, будто нюхаешь их из флакона, этот запах уже прошёл все этапы алхимической трансформации, смешался с ароматом кожи (мельчайшие бисеринки пота), ткани, и в) дыхание — я чувствую её дыхание, не спрашивайте каково это — дыхание нимфы, но самое главное: г) её голос.
Мортон!
Да, моя радость? Я весь к твоим услугам. Ещё один круг, и ещё. И ещё.
Это могло бы длиться целую вечность, если бы не внезапное открытие: они танцуют без музыки. Что за удовольствие каждую четверть объявлять шёпотом: раз-два-три, раз-два-три. Так дело не пойдёт. Ты можешь пока посмотреть пластинки, налей себе что-нибудь выпить, я всё устрою… Будь здесь. Никуда не уходи. Я сейчас.
Мортон надевает очки и спешит в ванную комнату. Тут главное — протиснуться к раковине так, чтобы ненароком не увидеть себя в зеркале. Он не знает наверняка, но это вполне очевидно: стоит посмотреть на себя — небритого, с всклокоченными волосами, в майке, которая когда-то была белой, а теперь напоминает скатерть на столе забегаловки после хорошей ночной пьянки, итак — стоит посмотреть на себя, увидеть себя такого, и ты — покойник. Никаких больше танцев, шелестящее платье придётся отменить (возможно — навсегда), и — в душ. И — за работу. И — на лекцию шагом Palais de Mari марш. Мортон, ты помнишь, что у тебя сегодня лекция в десять ноль-ноль?..
Ни в коем случае. Он отворачивается, снимает очки, кладёт их на шкафчик для купальных принадлежностей (злорадно ухмыляясь: теперь даже если он увидит себя в зеркале, ничего не случится, без очков ты — всего лишь беспомощный силуэт, размытый, расплывчатый, тьфу на тебя) и смело двигается дальше.
Он знает тут всё на ощупь.
Перво-наперво — отворить кран. Важно, чтобы вода не текла струйкой, а равномерно капала, хорошо бы положить в раковину что-нибудь металлическое. Капли будут падать, металл будет вибрировать. Ритм получится неравномерным, но нам и не нужен равномерный ритм. Нам нужен естественный ритм — как будто вода капает из крана. Она САМА капает, ей НРАВИТСЯ так капать. Она знает САМА, как ей капать.
Ну вот, сделано.
Теперь — на кухню. Нужен холодильник. Не просто холодильник. Нужен холодильник марки «Хоннекер» 1974-го года выпуска, который плохо морозит, зато хорошо стучит, когда заводится мотор. Мотор периодически заводится.
Невозможно заранее сказать, когда это случится. В этом всё дело.
Вот, собственно, какой холодильник нам нужен. Вот этот. Чудо из чудес: нам нужен ровно такой холодильник, какой у нас уже есть. С 1974-го года, кстати говоря, у нас имеется этот замечательный холодильник. Поди поищи «Хоннекер» где-нибудь там, за пределами нашего ТЕПЕРЬ — ведь ни за что не найдешь, а тут — всё под рукой, стоило выйти на кухню…
Клянусь, у нас будет музыка, лучшая из всех возможных. Потерпи, осталось совсем немного. Практически — ничего.
Вода капает. Я положил ей чайную ложку. Я перевернул чайную ложку. Она звенит — всякий раз, когда капля падает и разбивается вдребезги о металлическую поверхность.
Чудесно, не правда ли?
Холодильник стучит. То стучит: д-д-д-д-д-д-д, то — не стучит.
Ложечка и холодильник — basso conti-пио. Как у Вермеера: фон говорит. Практически всё, что требовалось сказать, он уже говорит. Раньше, чем мы приготовимся слушать. Причём — сам. Никто его за язык не тянет.
Осталось найти третий ингредиент. Совершенно иной звук, протяжный. Флейта — грубо говоря.
Вот что-то такое, да… Гудки за окном. Автомобили. Вот такой. Вот этот.
Нужно открыть окно. Это всё. Вуаля.
Мортон падает в кресло. Майка промокла насквозь, он тяжело дышит. Очки остались в ванной, пусть там и пребудут, по крайней мере — до скончания века. Век только начался. Сию минуту начался новый век — стоило ему отворить окно.
И пока вода капает, холодильник стучит/не стучит, автомобили гудят, век продолжается. Пока всё это происходит — мы живы. Мы тут.
Отец! Отец! Разве ты не видишь Лесного Царя? Гёте, Лесной Царь (прозаический перевод М. Цветаевой)
— Ферстль, вон из класса!
Никакой реакции.
— Ферстль, встань и выйди из класса!
Ноль внимания. Белокурый подонок. Скотина.
— Ферстль, если ты сам не выйдешь, я помогу тебе, клянусь твоей жирной жопой! Смотри, Ферстль, я беру розгу, окунаю в раствор соли… Кстати говоря, Швинд, что происходит с кристалликом соли, который попадает в воду?
— Он растворяется, господин учитель.
— Значит ли это, что он исчезает совершенно (Ферстль, я иду!) или всё же присутствует где-нибудь тут, поблизости, в том или ином виде? И что же происходит с водой, в которую попадает такой кристаллик?
Адамбергер?..
— Вода становится мутной, господин учитель.
Всеобщий смех и ликование. Учитель, низенький толстый очкарик с волосами, торчащими на все стороны света, движется по направлению к «камчатке», помахивая на ходу розгой, рассекая со свистом воздух.
— Твоя правда, Адамбергер. Вода становится мутной. Она насыщается. И что же кристаллик, друг мой, что происходит с маленьким кубиком соли, который попадает в чужеродную среду? Куда же он пропадает?
— Он. Я не знаю, господин учитель.
— Ты не знаешь… А вот и я, Ферстль. Становись на корточки, свинья. Спускай штаны. Кристаллик соли, дорогой Адамбергер. Маленький, твёрдый, хрупкий. Его беда в том, что он — чересчур самонадеян (Ферстль, твои пять с половиной ударов розгой, и — полное отпущение грехов. Имеет смысл потерпеть. Ррррразззз!..). Он слишком хрупок для того, чтобы позволить себе такое поведение. Смотри, самим своим существованием он оскорбляет воздух и воду. Они стремятся поглотить его (Два!.. Ферстль, не ори, недолго осталось!). Если поднести его поближе к глазам и присмотреться, можно увидеть удивительные вещи. Там, внутри целый мир, совершенно отличный от всего, к чему вы привыкли (Тррррри!..).
Так… Знаете что, мне надоело. Ферстль, пошёл вон. Тебя даже пороть противно.
— Господин учитель, можно остаться?
— Совершенно ни к чему, Ферстль. Считать свиные туши ты уже умеешь. Зачем тебе оставаться?
— Интересно про соль. Как она растворяется.
— Разве ты не почувствовал этого — на собственной шкуре?.. Ну хорошо. Оставайся. Но если опять станешь пакостить, берегись!.. Гомер называл соль «божественной». В его времена соль ценилась превыше золота. Христос говорил апостолам: «Вы — соль земли». Почему он так говорил, Шотт?
— Я не знаю, господин учитель.