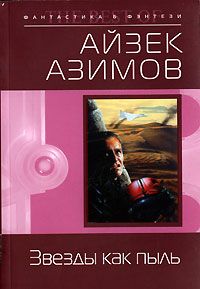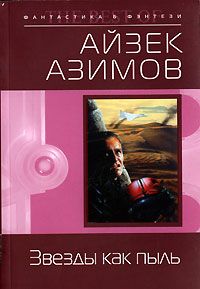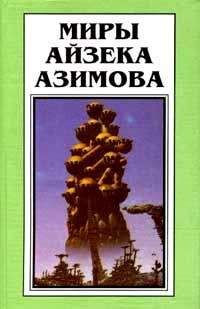— Я не знаю, господин учитель.
— У тебя есть отец, мать? Братья? Сёстры?
— Есть, господин учитель.
— Помнишь ли ты, что сказано в Святом Писании о тех, кто обратился к Господу?
— Сказано, что у Христа нет матери, и отец его — Отец Небесный.
— Ты умнее, чем выглядишь, Шотт. Выходит, что соль появляется из земли так же точно, как Христос вышел из людей. Он оставил семью, друзей, и ушёл к Господу. И умер на кресте.
Шум, смешки, возгласы.
— Молчать! Это ещё не всё. Вот я беру один-единственный кристаллик соли и бросаю в стеклянную банку с водой.
Что происходит, Адамбергер?
— Он исчезает, господин учитель.
— Верно. Исчезает без следа. А вот я беру коробку и высыпаю всю соль. Что теперь?
— Соль больше не растворяется.
— Точно. У тебя хорошее зрение. Христос был один, поэтому его смерть была неминуема. Но когда крупный кристаллик растворяется в воде, вода становится солёной, верно, Ферстль? Так смерть Господа нашего на кресте изменила нас навсегда.
— Но, господин у читель.
— Разве я разрешил тебе говорить, Ферстль?
— Нет, но.
— Что ты можешь сказать, негодяй?..
— Вы говорите, апостолы были как соляные кристаллы, и Иисус — тоже. И это потому, что оставили родителей и как бы отделились от них.
— Ого!.. На тебя совсем не похоже. Что заставляет тебя слушать и вникать (помимо хорошей порки)?
— Вот я и думаю, господин учитель. мой отец держит мясную лавку, я его столько раз просил не отдавать меня в мясники. для меня это — смерть. а он. говорит, что я глуп, что сам не знаю своего счастья. простите за неуместное сравнение, но ведь и ваш отец — господин директор — приставил вас сюда, учительствовать, хотя. мы же знаем, что вам не слишком нравится тут. с нами. все они одинаковы… отцы, я имею в виду…
— Ферстль, поди сюда.
— Я совсем не то хотел сказать… я…
— Не бойся, иди, иди сюда. Стань вот тут, лицом к классу. Посмотрите на него. Майер, не нужно скалиться. Видите этого человека? Только что он сделал первый шаг — к тому, чтобы…
Внезапно распахивается дверь, входит директор.
...постичь сложное, невероятно затейливое устройство мироздания.
Химия — царица наук, никогда не забывайте об этом. Урок окончен. В следующий раз мы разберём понятие диффузии…
Во времена моего детства по телевизору вечно шли одни и те же фильмы, их показывали так часто, что рано или поздно каждый из них приобретал статус коллективного мифа: распоследний алкаш, позабывший имя собственное, был способен воспроизвести близко к тексту пассаж из «Иронии судьбы» или напеть арию Рязанова, а грузчики в вино-водочном помимо естественно-матерного пользовались сленгом, составленным из кинематографических цитат и словечек. Одним из таких фильмов-мифов был «Необыкновенный концерт» Образцова — кукольный спектакль, адаптированный для телевидения: фейерверк пародий и скетчей, временами унылых и пошлых, временами — блестящих, безумных, абсурдных.
Один из номеров «Необыкновенного концерта» представлял собой пародию на выступление академических музыкантов, исполняющих «конкретную» музыку (о которой, разумеется, советский зритель в то время не имел никакого представления): в качестве инструментов использовались: унитазный бачок, скрипучая дверь, стакан булькающей жидкости (один из кукольных персонажей звучно «полоскал» горло) и струна, натянутая на унитазную трубу для слива воды. Ясно было, что речь идёт о «творцах», одержимых гордыней Нового, о тех, кто ищет оригинальности любой ценой, используя негодные, «низкие» средства для достижения «высокой» цели. Их наглость сравнима разве что с их непомерным самомнением, и смех зрителя должен послужить им уроком.
В те запретительные времена у нас не было возможности увидеть своими глазами «Звёздные войны» или Тинто Брасса, зато мы могли с упоением читать и перечитывать ругательные статьи в «Искусстве кино», а после — грезить о неувиденном, каждый на свой лад. Такая фантазматическая мастурбация приносила необыкновенные плоды: когда я, наконец, посмотрел одну из серий «Звёздных войн» (помнится, это произошло уже в эпоху развивающейся видеоиндустрии на квартире у богатенького одноклассника), был потрясён убогим замыслом и картонными персонажами: не этого я ждал от фильма, который ругали в прессе с такой страстью и упоением, совсем не этого.
С академической музыкой было куда как хуже: нашему воображению приходилось полагаться на слухи и догадки.
Помню, что фамилия «Булез» служила своеобразным паролем-пропуском в мир Необыкновенный концерт ценителей новейших шедевров, которых никто из нас слыхом не слыхивал. Всё это чертовски напоминало культ или секту: мы говорили о том, чего даже приблизительно не представляли, но полагали, что хорошо знаем — просто потому, что это служило предметом самых оживлённых споров и обсуждений.
Кажется, в те годы я был уверен, что «Молоток без Мастера» Булеза — нечто, напоминающее ораторию «Нагасаки» (единственное атональное произведение, которое я к тому времени слышал) и — одновременно — православную литургию: мой фантазматический Булез был аналогом позднего, ещё не случившегося Шнитке. Как представляли себе музыку Булеза товарищи по несчастью, я не знаю и даже отдалённо не представляю себе.
Понятно, что о «конкретной» музыке мы вообще ничего не слышали: имя Пьера Шеффера впервые мелькнуло в книге, посвящён-ной достижениям инженерной мысли в области аккустики. О его композиторских проектах было упомянуто вскользь и невзначай: в глазах автора монографии (не упомнить теперь ни названия, ни даже темы) Шеффер был инженером, который в свободное от работы время баловался сочинительством.
Всё изменилось, когда стараниями энтузиастов в России стала исполняться музыка Кейджа и Фельдмана, нововенцы обрели статус классиков, и слово «Штокхаузен» перестало быть ругательным. К тому времени появились первые магнитофонные записи Лигети, «Железный Занавес» приоткрылся: крупные западные фирмы грамзаписи принялись за Шнитке и Губайдулину. Помнится, когда в моём доме появилась бобина с карандашной надписью «Туранга-лила» на обложке, это был настоящий шок: несколько дней я почти не показывался из дома.
Но вот что казалось мне странным и удивительным: чем глубже погружался я в мир новых звучаний, мир, казавшийся мне тогда свободным от академических предубеждений, тем меньше оставалось вокруг людей, способных разделить со мной моё счастье, мои догадки и прозрения, мой вечный музыкальный голод. Увы, большинство моих друзей не могли отличить на слух квартета Бартока от квартета Веберна.
Да-да, они кивали мне. Они говорили: это здорово, классно, старик. Ураган! Но уже десять-пятнадцать минут спустя каждый из них терял нить музыкального со-знания, и вместо того, чтобы ПОГЛОЩАТЬ музыку, был способен лишь ПРИСУТСТВОВАТЬ.
Они были похожи на слепых, которые притворяются зрячими.
Среди тех, кто приходил ко мне, было много музыкантов. Никто из них не был заинтересован в том, чтобы разобраться в том, что же на самом-то деле происходит в этом огромном отеле в тысячу этажей, миллионом комнат и миллиардом обитателей, который должен был, по идее, служить им домом.
Я уговаривал. Я убеждал. Я злился.
Ничего, абсолютно ничего не помогало.
И в один прекрасный день я понял, что нужно делать.
Я назвал это «Необыкновенным концертом» — в честь кукольного представления Образцова, а точнее — в честь того самого фрагмента, о котором шла речь выше. «Необыкновенный концерт» просуществовал всего несколько месяцев, но это были прекрасные, удивительно плодотворные месяцы. Мне удалось «обратить в свою веру» множество людей, в прошлом далёких от академической музыки, а «вторая волна» — волна слухов, пересудов и газетных материалов — породила настоящий ажиотаж. Домохозяйки, врачи, студенты, художники, хипповатые рок-н-ролльщики, профессора университета и даже милиционеры, которые до определённого момента слыхом не слыхивали о додекафонии, аллеаторике, минимальной и конкретной музыке, стали живо интересоваться всем этим.
Идея была почерпнута из книги Станислава Грофа «За пределами мозга». В этой книге речь шла об исследованиях психотропного препарата ЛСД-25 на добровольцах, весь материал был собран и классифицирован Грофом задолго до запрещения ЛСД и представлял собой своеобразные клинические дневники доктора-энтузиаста. Помнится, меня заинтересовала упоминание о том, что под воздействием ЛСД люди, до эксперимента совершенно не принимавшие современного искусства, начинали находить в нём смысл и удовольствие.
К сожалению (или к счастью), ЛСД в моём распоряжении не было, поэтому я решил ограничиться техническими приёмами, которые предлагал Гроф для путешествия в мир коллективного бессознательного. Я полностью расчистил одну из комнат огромной квартиры, доставшейся мне по наследству от дедушки, и назвал комнату «Кабинетом Мастера Превращений», повесив табличку соответствующего содержания.