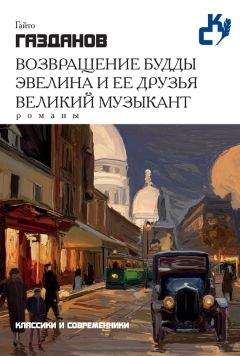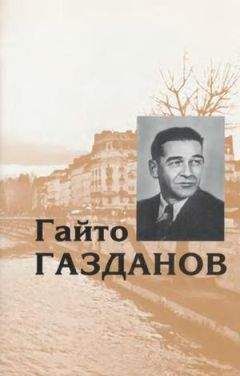– Через несколько минут, – рассказывал он следователю, – я увидел, как он вышел из дому. Он постоял немного, посмотрел по сторонам и, засунув руки в карманы, пошел вниз, к rue Chardon Lagache. Я подождал еще четверть часа, потом открыл ключом дверь и вошел.
Павел Александрович спал, сидя в кресле, и ничего не слышал. Амар на цыпочках подошел к нему сзади и ударил его ножом в затылок. Смерть была мгновенной. Он вытер кровь с ножа платком и в эту секунду вдруг увидел на полке золотую статуэтку Будды. Он снял ее, чтобы лучше рассмотреть, и, не думая ни о чем, сунул ее в карман. Потом он вышел на улицу и запер за собой дверь.
Все было тихо, вокруг не было ни души. Дойдя до Сены, он наколол окровавленный платок на нож, сделал вокруг него узел и бросил это в реку. Затем он перешел на другой берег и опять взял такси, на котором доехал почти до угла той улицы, где находился дансинг. Здесь же он встретил Гюгюса, которому отдал статуэтку, прося сохранить ее некоторое время. Потом он вернулся в дансинг. Оркестр продолжал играть. Лида по-прежнему танцевала.
– Это было так, как будто ничего не случилось, – сказал он.
Он положил ключи обратно в сумку. Лида, кончив танец, подошла к столику и спросила Амара, где он был. Он ответил:
– Ты можешь меня поблагодарить, дело сделано.
Но когда несколько позже он рассказал ей, как все это было, она, по его словам, пришла в бешенство. Она сказала ему, что он действовал как последний дурак, что он погубил их всех, что мне, несомненно, удастся доказать свою непричастность к убийству, что и инспектора, и следователь отнесутся ко мне не так, как отнеслись бы к нему. После этого Амар совершил непоправимую ошибку – он скрыл от Лиды, что взял статуэтку Будды.
Показания Лиды существенно разнились от версии Амара: она ничего не знала об убийстве до того, как оно было официально обнаружено, когда уборщица, приходившая к Щербакову каждое утро, отворила дверь – у нее был ключ от квартиры – и нашла труп Павла Александровича, о чем тотчас же дала знать в комиссариат. Лида и ее семья никогда не обсуждали проектов убийства; те разговоры, на которые ссылается Амар, носили явно шуточный характер: и Лида, и ее родители прекрасно относились к Щербакову и меньше всего желали его смерти. О необходимости составить завещание с ней заговорил сам Павел Александрович, но только потому, что у него была сердечная болезнь и было благоразумно ее предвидеть. Она не могла дать знать в полицию, что убийца – Амар, так как он пригрозил ей, что убьет и ее, если она скажет кому-нибудь хоть одно слово.
Я узнал все эти подробности из газетных отчетов; и, столкнувшись непосредственно с трагическими событиями, положившими конец существованию Павла Александровича Щербакова и обусловившими мое освобождение и мою материяльную обеспеченность, неожиданную, почти как его богатство, – я все больше и больше проникался той мыслью, что судьба Амара и Лиды, так же как смерть Павла Александровича, составляла часть сложной схемы, не лишенной некоторой зловещей и последовательной логики. Когда Амар был раздет, на его груди полицейский врач увидел татуированную надпись: «Enfant de malheur»[19]. Теперь его ждала гильотина или бессрочная каторга. То, что он совершил это убийство, против которого Лида протестовала не в принципе, а только по чисто техническим соображениям, не было случайно. Это был последний эпизод его борьбы против того мира, в который ему был закрыт доступ – потому что он был полуараб-полуполяк, потому что он был едва грамотен, потому что он был беден, потому что он был чахоточным, потому что он был сутенер, потому что там говорили о вещах, которых он не знал, языком, которого он не понимал. И вместе с тем ему хотелось туда проникнуть, оттого что там были деньги, хорошие квартиры и автомобили, главное – деньги. И его побуждало даже не только это, а еще и какое-то смутное сознание, что есть другая, лучшая жизнь, для перехода в которую достаточно перешагнуть через труп пожилого и не способного защищаться человека. В этом заключалась его отвлеченная ошибка – в этом желании уйти от тех условий жизни, в которых он родился и вырос. Он наивно полагал, что для осуществления этой цели у него в руках есть достаточное оружие – трехгранный нож. Он рассчитывал, что вечерний визит к его жертве другого человека, почти такого же, как тот, которого он убьет, введет в заблуждение следователя и всех остальных. Он не мог понять, что перед этими людьми он был беззащитен, как ребенок, и что за эту отчаянную и незаконную попытку изменить существующий порядок вещей заплатит своей собственной жизнью. Он был осужден заранее, и судьба его была давно предрешена, каковы бы ни были обстоятельства его существования. Конечно, все это казалось результатом ряда случайностей: Тунис, встреча с Лидой, ее парижское знакомство с Павлом Александровичем. Но внутренний смысл этих случайностей оставался неизменным и был бы таким же, если бы вместо них были другие. Это не изменило бы ничего – или почти ничего.
Он был предоставлен теперь самому себе, его участь не разделил никто, и он не мог рассчитывать ни на чью помощь и ни на чье сочувствие. Лида не поддержала его потому, что была слишком умна для этого, другие отказались от него – его товарищи, – потому что, в сущности, его личная судьба была им безразлична. И позже ни следователь, ни люди, которые его судили, не испытывали по отношению к нему ненависти, не были воодушевлены жаждой мщения; он подпадал под такую-то статью закона, далекий составитель которого, конечно, не имел в виду никого в особенности. И для всех, кто, казалось, играл известную роль в решении его участи, было совершенно не важно, что вот он, именно он, Амар, через некоторое время перестанет существовать. В этом была, конечно, какая-то, на первый взгляд легко доказуемая справедливость – того же порядка, что своеобразная логика его жизни, приведшая его на гильотину. Но она была чрезвычайно далека от классического торжества положительного начала над отрицательным. Никто никогда не терял времени на объяснение Амару разницы между добром и злом и глубочайшей условности этих понятий. Если он что-нибудь понял из всего, что с ним произошло, то это могло быть только одно: он совершил какую-то ошибку в расчете. Не сделай он ее, никакое сознание своей вины, никакое раскаяние никогда бы не мучило его. Деньги Павла Александровича были бы истрачены, и все было бы в порядке – до той минуты, пока не появились бы какие-нибудь новые факты, которые привели бы его приблизительно к тому, что происходило сейчас. Но вернее всего, он умер бы до этого своей смертью, от чахотки. Он имел несчастье принадлежать к тому огромному большинству людей – вне его личной принадлежности к уголовному миру, – на интересы которого неизменно ссылались все созидатели государственных принципов, все социальные и почти все философские теории, которое составляло материял для статистических выводов и сопоставлений и во имя которого как будто бы происходили революции и объявлялись войны. Но это был только материял. До тех пор, пока Амар работал на бойнях в Тунисе, покрытый зловонной кровавой слизью, и получал в месяц столько, сколько тратил его адвокат в течение одного вечера, проведенного в Париже с любовницей, его существование было экономически и социально оправдано, хотя он этого и не знал. Но с того дня, что он перестал работать, он сделался не нужен. Что он мог бы сказать в свою защиту, кому и зачем была необходима его жизнь? Он не представлял собой больше единицы рабочей силы, он не был ни служащим, ни каменщиком, ни артистом, ни художником; и безмолвный, не фигурирующий ни в одном своде или кодексе, но неумолимый общественный закон не признавал больше за ним морального права на жизнь.
И даже чисто внешне – им в какой-то мере интересовались только до той минуты, пока он не успел сказать, что это он убил Щербакова. После этого признания вокруг него образовалась пустота, и в пустоте была смерть. Даже адвокат, который его защищал, рассматривал его только как удобный предлог для упражнения в судебном красноречии, потому что, в конце концов, что значила для него, мэтра такого-то, жившего в удобной квартире, хорошо зарабатывавшего молодого человека, ежедневно принимавшего ванну, имевшего заботливую жену, читавшего книги современных авторов, любившего пьесы Жироду и философию Бергсона, – что значила для этого далекого господина судьба грязного и больного убийцы-араба?
Теперь все было кончено: он был присужден к смерти и ждал того дня, когда приговор будет приведен в исполнение. Я вспомнил его страшное, темное лицо на процессе, черные и мертвые его глаза. Он, вероятно, не понял ни речи прокурора, ни речи защитника; он понял только то, что приговорен к смерти. Слушая сначала слова прокурора, затем речь защитника, я готов был пожать плечами, настолько ясной казалась искусственность их построений. Но, конечно, это было неизбежно, потому что в юридическом преломлении всякий факт человеческой жизни не мог не претерпеть существенного искажения. Прокурор сказал: