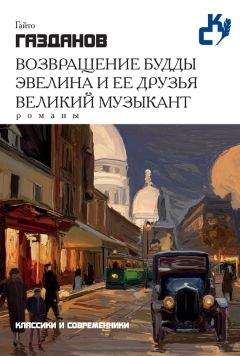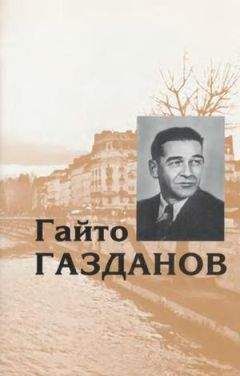Сравните биографию этого человека с биографиями тех, кто его окружал. Амар родился и вырос в нищете, не получил никакого образования, работал на бойнях в Тунисе и вел бедную и убогую жизнь, которую ведут обездоленные туземцы наших африканских департаментов. Кто мог ему внушить стремление к другой жизни, кто знал дорогие рестораны, кабаре, авеню Елисейских Полей, ночной Париж, разврат и расточительность, переходы от богатства к бедности и от нищеты к богатству? Кто посоветовал Лиде настаивать на необходимости завещания? Кто обсуждал разные возможности не убийства, конечно, а устранения Щербакова, кому были нужны его деньги? Сравните показания Амара с показаниями Лиды и Зины. Амар не умеет ничего скрыть, он не может даже солгать. В том, что говорят Лида и Зина, вы не найдете ни одной тактической ошибки. Они ничего не знали об убийстве, они были искренне привязаны к Щербакову, они питали к нему самые положительные чувства. Разве вы не видите в этом нестерпимой и явной фальши? Любить человека – и настаивать на завещании; любить человека – и проводить ночи с другим; любить человека – и хладнокровно целыми вечерами обсуждать, как именно безопаснее и удобнее всего от него избавиться.
Есть в этом деле еще некоторые данные, точного значения которых мы не можем учесть, но их существования нельзя отрицать, и оно ставит под сомнение возможность того простейшего и категорического толкования, которое было выдвинуто обвинением. В частности, роль молодого человека, на которого вначале пало подозрение и которому Щербаков, по совершенно не известным для нас побуждениям, оставил все свое состояние, – роль этого студента тоже менее ясна, чем кажется на первый взгляд. Он имел отчетливое представление о нравственном облике Лиды и ее матери, и он знал о существовании Амара. Почему, будучи лучшим другом покойного, он не предупредил его об опасности подобной связи? Что значит, наконец, его загадочный ответ во время следствия, когда он, отрицая, что он убийца, произнес эти непонятные слова: «Это было произвольное логическое построение»? Я не оспариваю его фактической непричастности к убийству, после признаний Амара это было бы бессмысленно. Но одно то, что он это считал почему-то логически допустимым и, стало быть, возможным, кажется чрезвычайно странным, и это, может быть, заслуживало бы дополнительного следствия…
В общем, его защита была построена на первом его утверждении, именно, что Амар был только исполнителем чужой и преступной воли и что его следует судить только как исполнителя. Всю вину он переносил на Зину и Лиду, биографии которых он рассказал с таким богатством подробностей, которое доказывало его исключительный интерес к этому делу. Очевидно, он относился к своей роли защитника чрезвычайно добросовестно, но это все-таки не мешало тому, что участь Амара интересовала его лишь постольку, поскольку она была связана с успехом его выступления в суде. Он возражал против каждого положения прокурора – с большей или меньшей убедительностью, но, в противоположность своему противнику, не уделял достаточного внимания чисто логическим построениям, и в этом, как мне казалось, заключалась его ошибка.
Он кончил свою речь обращением к судьям, не менее патетическим, чем обращение прокурора:
– Обвинение призывало вас остановить эту серию убийств, которую, по его мнению, нельзя не предвидеть в дальнейшем. Я беру на себя смелость утверждать, что до вмешательства правосудия об этом позаботилась жестокая судьба подсудимого. Вы можете быть спокойны: с его стороны никому больше не угрожает никакая опасность. Он болен тяжелой формой туберкулеза, из его легких идет кровь, и было бы, мне кажется, в одинаковой степени бессмысленно и жестоко, если бы правосудие взяло на себя ту печальную задачу, которая уже разрешена болезнью. При всех обстоятельствах Амару недолго остается жить: дни его сочтены. И я взываю к вашему милосердию: дайте ему умереть собственной смертью. Разница во времени будет ничтожна, разницы в результате не будет вовсе. Он все равно приговорен к смерти; не берите на себя неблагодарную задачу заменить собой его неумолимую судьбу. Как я только что сказал, во всех случаях результат будет один и тот же. Но если вы его не осудите, на вашей совести будет одним смертным приговором меньше и этот человек умрет в тюремной больнице, унося с собой благодарное воспоминание о том, что, будучи предан своими друзьями и женщиной, ради которой он рисковал своей убогой жизнью, он встретил милосердие со стороны тех, кто увидел его впервые на скамье подсудимых и кто сумел понять до конца этого бедного и темного араба, взявшего на себя расплату за преступность людей, толкнувших его на убийство.
Приговор был объявлен после часового перерыва: Амар был присужден к смертной казни.
Я посмотрел на него: губы его тряслись, он говорил что-то отрывистое и бессвязное, и на темное его лицо легла тяжелая тень. Он видел, что все было кончено, – и я подумал тогда, что еще в течение некоторого короткого времени продолжится призрачное существование этих мертвых черных глаз, этого худого и смуглого тела с татуированной надписью на груди, но это будет только затянувшейся формальностью, и что, в сущности говоря, этот человек ничем не отличается теперь от тех, кто был убит на войне, кто умер от тяжелой болезни, от того, кто был заколот трехгранным ножом и чья тень так жестоко отомстила ему.
–
Когда я вернулся домой после нескольких недель заключения, меня поразила невозмутимая неизменность всего, что я покинул в день моего ареста и что я обретал теперь. Те же люди проходили по той же улице, те же знакомые обедали в том же ресторане; это был все тот же городской и человеческий пейзаж, который я так хорошо знал. И тогда я с особенной силой ощутил зловещую неподвижность существования, характерную для людей, живших на моей улице, и о которой я думал в тот вечер, казавшийся мне теперь бесконечно далеким, когда я стоял у окна и вспоминал «Страшный суд» Микеланджело. Когда я привел в порядок свою комнату, принял ванну, начал бриться и посмотрел на себя в зеркало, я опять встретил в нем все то же самое, чем-то враждебное отражение своего лица. И прежние размышления с новой силой вернулись ко мне, нечто похожее на непрекращающуюся головную боль, эти постоянные и столь же упорные, сколь бесплодные поиски какого-то призрачного и гармонического оправдания жизни. Я не мог его не искать, потому что, в отличие от людей, которые верили в почти рациональное существование некоего божественного начала, я был склонен к тому убеждению, что это неутолимое желание обрести нечто неуловимое объяснялось, вероятно, несовершенством моих органов восприятия; это мне казалось бесспорным, как закон притяжения или несомненность сферической формы Земли. Но хотя я это давно знал, я не мог остановиться. Слушая некоторые курсы лекций в университете и читая некоторые книги, имевшие к ним непосредственное отношение, я невольно завидовал профессору или автору, для которых почти все было ясно и которым история человечества представлялась стройной последовательностью фактов, единственный и несомненный смысл которых был тот, что они подтверждали основные выводы и положения их политических и социальных теорий. В этом было нечто утешительное и идиллическое, какая-то недосягаемая для меня метафизическая уютность.
Был мартовский холодный вечер; я надел пальто, вышел из дому и долго бродил по улицам, стараясь не думать ни о чем, кроме того, что в воздухе чувствуется приближение неверной парижской весны, что горят фонари и едут автомобили и что больше нет ни тюрьмы, ни обвинения в убийстве, ни, наконец, первый раз за всю мою жизнь, никаких материяльных забот о будущем. Я старался проникнуться как можно глубже этим сознанием своего бесспорного благополучия и все перебирал, одно за другим, положительные данные моего теперешнего состояния: свобода, здоровье, деньги, полная возможность делать то, что я хочу, идти или ехать, куда я хочу. Это было совершенно бесспорно; но, к сожалению, это было так же неубедительно, как бесспорно. И я почувствовал опять, что мной постепенно овладевает та тяжелая и беспричинная печаль, от припадков которой я никогда и ничем не мог себя предохранить.
Я шел по одной из маленьких и тихих улиц, выходящих на бульвар Распай. В первом этаже дома, мимо которого я проходил, вдруг отворилось на очень короткое время окно и в холодном воздухе прозвучала музыкальная фраза – там кто-то играл на пианино, – заставившая меня остановиться на месте. Я сразу узнал эту мелодию: она называлась «Воспоминание», и я слышал ее впервые несколько лет тому назад на концерте Крейслера. Я был на этом концерте в Плейель вместе с Катрин; она сидела рядом со мной, и мне казалось, что туманная ее нежность точно подчеркивала смысл мелодии и углубляла тему воспоминания, о котором играл Крейслер. Когда я пытался перевести на мой бедный язык словесных понятий это движение звуков, то это значило приблизительно следующее: ощущение счастливой полноты кратковременно и иллюзорно, от него останется потом только сожаление, и именно таково это печальное и соблазнительное предостережение; и оттого, что я знал неповторимость этой минуты, я с особенной отчетливостью, тоже, может быть, неповторимой, воспринимал это скрипичное волшебство. Это было в том году, когда Катрин приехала в Париж учиться и когда я познакомился с ней в маленьком ресторане Латинского квартала, где мы завтракали каждый день и где огромная плита находилась в той же комнате, что наши столики. Там сияли красные кастрюли, шипели многочисленные соусы в закрытых судках, пахло жареным мясом и крепким бульоном и над декоративной красочностью еды и кухни, словно перенесенной сюда чудом с голландских картин, царила громадная и веселая хозяйка, с дерзкими и радостными глазами, с черными волосами, высокой грудью, полными и стройными ногами и с этим незабываемым ее контральто, в котором как будто слышалось безошибочное звуковое отражение ее рубенсовской силы.