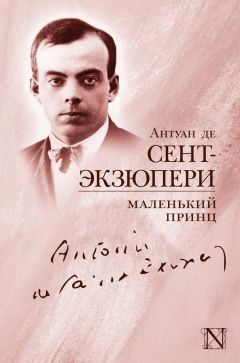И если Ривьер вернет телеграммам их подлинный смысл, если он вернет дежурным командам их тревожное нетерпение, а пилотам – их полную драматизма цель, это будет борьбой Ривьера со смертью. Его дело вновь наполнится жизнью, как наполняются свежим ветром паруса кораблей в открытом море.
Комодоро-Ривадавия больше ничего не слышит, но спустя двадцать минут Байя-Бланка, расположенная за тысячу километров от Комодоро, ловит второе послание:
«Спускаемся. Входим в облака…»
Потом – два слова из невнятного текста доходят до радиостанции Трелью:
«…ничего разглядеть…»
Таковы уж короткие волны. Там их поймаешь, здесь ничего не слышно. Потом вдруг все меняется без всякой причины. И экипаж, летящий неведомо где, возникает перед живыми так, словно он существует вне времени и пространства. И слова, проступающие на белых листках у аппаратов радиостанций, написаны уже рукой привидений.
Кончился бензин? Или перед лицом неизбежной аварии пилот решил сделать последнюю ставку: сесть на землю, не разбившись о нее?
Голос Буэнос-Айреса приказывает Трелью:
«Спросите его об этом».
Аппаратная радиостанции похожа на лабораторию: никель, медь, манометры, сеть проводов. Дежурные радисты в белых халатах молчаливо склонились над столами, и кажется, будто они проводят какой-то опыт.
Чуткими пальцами прикасаются радисты к приборам; они ведут разведку магнитного неба, словно нащупывая волшебной палочкой золотую жилу.
– Не отвечает?
– Не отвечает.
Может быть, им удастся услышать звук, который явился бы признаком жизни. Если самолет и его бортовые огни снова поднимаются к звездам, быть может, удастся услышать, как поет эта звезда…
Секунды текут. Они текут, как кровь. Продолжается ли полет? Каждая секунда уносит с собой какую-то долю надежды. И начинает казаться, что уходящее время – разрушительная сила. Время тратит двадцать веков на то, чтобы проложить себе путь через гранит и обратить храм в кучку праха; теперь эти века разрушения, сжавшись пружиной, нависли над экипажем: пружина каждый миг грозит развернуться.
Каждая секунда что-то уносит с собой. Уносит голос Фабьена, смех Фабьена, его улыбку. Все ширится власть молчания. Оно наливается тяжестью, наваливаясь на экипаж, как толща океана.
Кто-то говорит:
– Час сорок. Бензин весь. Не может быть, чтобы они еще летели.
Наступает тишина.
На губах какой-то горький, неприятный привкус, как в конце долгого пути. Свершилось что-то неведомое, что-то вызывающее смутное чувство отвращения. Среди всех этих никелированных деталей, среди медных артерий чувствуется печаль – та самая, что царит над разрушенными заводами. Оборудование кажется тяжелым, ненужным, бесполезным – кажется грузом мертвых сучьев.
Остается ждать дня.
Через несколько часов Аргентина всплывет из глубин навстречу дню, и люди остаются на своих местах, как на песчаном берегу, глядя, как медленно выступает из воды невод. И что в нем – неизвестно…
Ривьер в своем кабинете ощущает ту горькую опустошенность, которую познаешь только в часы великих бедствий, когда судьба освобождает человека от необходимости что-то решать. Он поднял на ноги всю полицию. Больше он ничего не может сделать. Только ждать.
Но порядок должен царить даже в доме умершего. Ривьер делает знак Робино:
– Дайте телеграмму северным аэродромам: предвидится серьезное опоздание патагонского почтового. Чтобы не задерживать почтовый на Европу, патагонскую почту отправим со следующим европейским.
Слегка сутулясь, Ривьер склоняется над столом. Потом делает над собой усилие, заставляет себя вспомнить что-то важное… Ах да! И чтобы снова не забыть, зовет:
– Робино!
– Да, господин Ривьер.
– Набросайте проект приказа. Пилотам запрещается превышать тысячу девятьсот оборотов. Они калечат мне моторы.
– Хорошо, господин Ривьер.
Ривьер сутулится еще больше. Хорошо бы сейчас побыть одному.
– Идите, Робино. Идите, старина.
И инспектора Робино ужасает это равенство перед лицом призраков.
Робино меланхолически бродил по конторе. Жизнь компании приостановилась: ночное отправление почтового, обычно вылетающего в два часа, видимо, отменено, и самолет вылетит только с рассветом. Служащие с хмурыми лицами еще дежурили, но их дежурство было бесцельным. С северных аэропортов метеосводки еще поступали с обычной регулярностью; но все эти слова о «ясном небе», о «полной луне» и «совершенном безветрии» вызывали теперь лишь представление о каком-то мертвом царстве. Лунная, каменистая пустыня…
Перебирая без всякой цели папку с бумагами, над которыми трудился заведующий бюро, Робино вдруг обнаружил, что тот стоит прямо перед ним с нагло-почтительным видом – в ожидании, когда ему вернут наконец его папку. Казалось, он говорил: «Разумеется, как вам угодно, но все же это мои бумаги…» Такое поведение подчиненного покоробило инспектора; но он не нашелся что сказать и раздраженно протянул ему папку. Заведующий бюро вернулся на свое место с выражением величайшего благородства. «Мне следовало послать его ко всем чертям», – подумал Робино. И, сохраняя достоинство, он сделал несколько шагов по комнате, думая о драме. Эта драма повлечет за собой опалу для Ривьера и всей его политики. Робино страдал и за Фабьена, и за Ривьера.
Потом перед его глазами возник образ Ривьера, одиноко сидящего в своем кабинете, Ривьера, который сказал ему: «Старина…» Никогда еще человек так не нуждался в поддержке. Робино от души пожалел Ривьера. Он перебирал в уме несколько туманных фраз, предназначенных для сочувствия и утешения. Его охватил порыв, показавшийся ему прекрасным. Робино тихонько постучал в дверь. Ответа не было. Не осмеливаясь нарушать тишину более громким стуком, он отворил дверь. Ривьер был в кабинете. Впервые Робино входил к Ривьеру не на цыпочках, а ступая почти на всю ступню, входил почти как друг; ему представлялось, что он сержант, который под пулями следует за раненым генералом, не отходит от него ни на шаг в часы разгрома и, как брат, идет вместе с ним в изгнание. Казалось, Робино хотел сказать: «Что бы ни случилось, я всегда с вами».
Ривьер молчал и, наклонив голову, смотрел на свои руки. И Робино, стоя перед ним, не смел заговорить. Лев, хотя и поверженный, вселял в него робость. Инспектор подыскивал высокие слова, которые должны были выразить его стремление к самопожертвованию; но каждый раз, подымая глаза, он видел перед собой склоненную голову, седые волосы, горько – о, как горько! – сжатые губы. Наконец он решился:
– Господин директор…
Ривьер поднял голову и посмотрел на него. Он очнулся от задумчивости такой глубокой, вернулся из такой дали, что, вероятно, даже не заметил присутствия Робино. И никому никогда не узнать, какие видения прошли перед глазами Ривьера, что пришлось ему испытать в эти минуты и какая печаль охватила его сердце… Ривьер смотрел на Робино долгим взглядом, словно на живого свидетеля каких-то событий. Робино смутился. И чем дольше смотрел на него Ривьер, тем яснее обозначалась на его губах непостижимая для Робино ирония. Чем дольше смотрел на него Ривьер, тем больше краснел Робино. И Ривьеру все больше казалось, что Робино с его трогательно добрыми и, к сожалению, необдуманными намерениями пришел сюда живым свидетельством человеческой глупости.
Робино охватило сомнение. Сержант, генерал, град пуль – все оказалось неуместным. Он не понимал, что происходит. Ривьер все смотрел на него. И Робино невольно даже переменил позу, вытащил руку из левого кармана. Ривьер все смотрел на него. Тогда, с чувством огромной неловкости, сам не зная почему, Робино произнес:
– Я пришел за распоряжениями.
Ривьер вынул часы и просто сказал:
– Два часа. Почтовый из Асунсьона приземлится в два десять. Прикажите дать отправление европейскому почтовому в два пятнадцать.
И Робино разнес по конторе удивительную весть: ночные полеты не отменены. Он обратился к заведующему бюро:
– Принесите мне ту папку, я проверю ее.
Когда заведующий бюро подошел к нему, Робино сказал:
– Ждите.
И заведующий бюро ждал.
Почтовый из Асунсьона дал сигнал: «Иду на посадку».
Даже в самые горькие часы этой ночи Ривьер не переставал следить по телеграммам за благополучным движением асунсьонского самолета. Это было для Ривьера своего рода реваншем за поражение, доказательством его правоты. Телеграммы об этом счастливом полете были провозвестниками тысяч других столь же счастливых полетов. «Не каждую же ночь свирепствуют циклоны». Ривьер думал также: «Путь проложен – сворачивать нельзя».
Спускаясь из Парагвая по ступенькам аэродромов, словно выходя из чудесного сада, богатого цветами, низенькими домиками и медлительными водами, самолет скользил вне границ циклона, и тучи не закрывали от него ни одной звезды. Девять пассажиров, закутавшись в пледы, прижимались лбами к окошкам, словно к витринам с драгоценностями: маленькие аргентинские города уже перебирали во мраке свои золотые четки, а над ними отливало нежным блеском золото звездных городов. Впереди пилот поддерживал своими руками бесценный груз человеческих жизней; в его больших, широко раскрытых глазах козопаса отражалась луна. Буэнос-Айрес уже заливал горизонт розоватым пламенем, готовый засверкать всеми своими камнями, подобно сказочному сокровищу. Пальцы радиста посылали последние радиограммы – точно финальные звуки большой сонаты, которую он весело отбарабанил в небе и мелодию которой так хорошо понимал Ривьер; потом радист убрал антенну, зевнул, слегка потянувшись, и улыбнулся: прибыли!