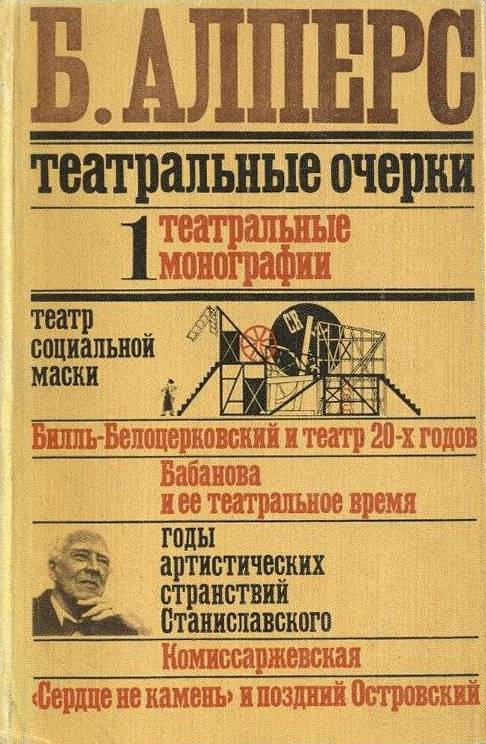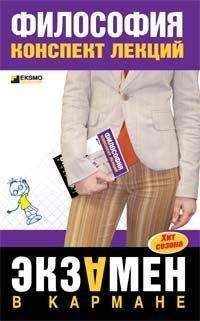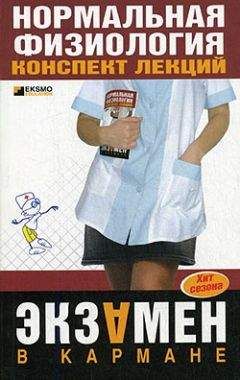называли в качестве образцов тех или иных картин Рембрандта, кажутся неубедительными не потому, что Рембрандт пренебрегал искусством прошлого, а потому, что не заявлял открыто тем или иным способом о прообразах своих работ. Конкретные источники, из которых Рембрандт мог заимствовать темы, мотивы, детали столь амбициозных картин, как «Даная», «Иаков, благословляющий сыновей Иосифа» или позднее «Возвращение блудного сына», остаются невыясненными. Их сюжет и мастерство, с которым они исполнены, позволяет им прочно занять место в европейской традиции, однако точно определить, как они соотносятся с ней, очень трудно. Специфику их родства и связи с европейским искусством нелегко оценить, так как Рембрандт не называл свои источники, не заявлял о соперничестве с ними в духе «эмуляции» [168].
Прибегнув к другим терминам, предлагавшимся для определения особых способов подражания, не можем ли мы сказать, что Рембрандт практиковал его как трансформацию и диссимуляцию, маскировку, то есть, в сущности, зашифровывал, утаивал свои источники? Подобную практику в ту пору часто объясняли, приводя голландскую пословицу: «Из хорошо проваренной репы получается отличная похлебка». Ключевое слово здесь – rapen (репа), которое также обозначало мелкую поживу или попросту краденое добро (от омонимичного глагола [169]) [170]. Суть в том, что создание картины подобно варке супа: нельзя обойтись без «ингредиентов», элементов чужих произведений: приходится их подбирать и заимствовать, а потом хорошенько перемешивать – так, чтобы в итоге никто их не различил и не распознал. В этой пословице выражен особый принцип художественного производства, который в случае Рембрандта подталкивал к поиску скрытых им – возможно, намеренно – источников. Но что, если Рембрандт не просто хотел трансформировать или скрыть свои источники, а по каким-то причинам решил создать видимость, что у него их вовсе не было? Ренессансной философии подражания такие мотивы и не снились [171].
Обычная тактика Рембрандта заключалась в том, чтобы обратиться к темным, загадочным образам, не опознаваемым как часть канона. Он ожидал, что зритель, не различив модель, скрывающуюся за той или иной фигурой, станет смотреть на саму фигуру. Если Рубенс заимствовал узнаваемую иконографию определенных фигур ради выразительности, которой наделила ее многолетняя традиция (Аби Варбург обозначил ее термином Pathosformel, «формула пафоса»), то Рембрандт ее избегал. Он заимствовал те или иные образы, приспосабливая их для своей цели: передать нечто, весьма напоминающее по своей сути студийные постановки и инсценировки, разыгрываемые его учениками и заказчиками, то есть создавал модели, которые позволили бы ему, как он считал, избежать стерео типов [172]. В качестве примера можно привести картину «Ангел, покидающий семейство Товии», «источником» которой принято считать (на мой взгляд – вполне справедливо) гравюру Хемскерка (ил. 102, 103). В данном случае Рембрандт заимствовал основные элементы композиции. Рембрандтовский ангел удивительно напоминает ангела Хемскерка, впрочем, на луврской картине он переливается всеми оттенками зеленого и золотистого тонов. Однако Рембрандт использует гравюру Хемскерка как своего рода опору, возводит на ее основе, словно на строительных лесах, собственное здание – и, в конечном счете, поглощает ее. Согласно его замыслу, зрители не должны были ее узнавать [173]. Воспроизводя ту же самую сцену на более позднем рисунке, Рембрандт возвращается к Хемскерку, но преследует уже иную цель: он хочет увидеть ее так, как мог бы увидеть группу «актеров-любителей» в своей мастерской – с другой точки зрения (ил. 57).
Хорошим примером двусмысленного отношения Рембрандта к традиции является луврская «Вирсавия» (ил. 12). Нет никаких сомнений в том, что эта картина написана в полном соответствии с задачами одного из главных жанров европейской станковой живописи – женского ню. Нисколько не расходится с традицией и введенное в композицию взаимодействие фигур служанки и госпожи. Однако, определив тип образа, который создавал Рембрандт, мы обнаруживаем, что не существует ни конкретной канонической картины, ни гравюры по этой канонической картине, к которой он мог бы обратиться. В качестве возможного источника фигуры Вирсавии приводили гравюру Франсуа Перрье с античного рельефа, опубликованную в одной популярной книге, хотя мы не знаем, была ли такая книга в библиотеке Рембрандта (ил. 106). Впрочем, возражения против этого источника вызваны не тем, что он мог быть недоступен Рембрандту, а сомнением в том, что ему вообще требовался образец. Можно признать, что на картине Рембрандта, как и у Перрье, запечатлена процедура педикюра, а кроме того, сходным образом изображена левая рука (в том числе кисть) женщины. Если вспомнить, как Рембрандт в то время стремился приблизить свою живопись к трехмерной, осязаемой скульптуре, едва ли покажется случайностью, что какая-либо из его картин выполнена по мотивам гравюры, на которой показан скульптурный рельеф. Но вправду ли необходимо видеть в гравюре Перрье так называемый «источник» «Вирсавии»? Неужели мы не можем себе представить, что Рембрандт создал эту Вирсавию силой своего воображения, не обращаясь ни к одной конкретной модели в искусстве прошлого? В конце концов, обсуждая какую-нибудь картину учителя Рембрандта Ластмана, мы не стали бы столь упорно задаваться этим вопросом. Однако мы настойчиво ищем их, обсуждая Рембрандта, вероятно, потому что его картины, с нашей точки зрения, есть часть «классического» канона, и тем самым предполагаем, что его творения связаны с другими каноническими картинами точно так же, как связаны друг с другом работы других художников.
Если нам трудно вообразить, что Рембрандт обходился без конкретного источника, то мы должны попытаться представить себе, как художник, подобный Рембрандту, мог творить без него. Хранящаяся в Глазго картина неизвестного подражателя Рембрандта, на которой изображена женщина, правой рукой опирающаяся на стопку книг, значительно больше, чем гравюра Перрье, сообщает нам о манере, в которой создана «Вирсавия» (ил. 105). В свою очередь картина из Глазго связана с нью-йоркской «Вирсавией за туалетом», на которой натурщица изображена еще только готовящейся сыграть роль Вирсавии (ил. 104). Необычайная массивность, тяжесть плоти, ощущаемая при взгляде на обнаженную женщину, представленную в «Вирсавии», является результатом того, что Рембрандт воспроизвел, инсценировал традицию монументального ню, воплотив ее в изображении реальной женщины, позирующей ему в мастерской. Историю Вирсавии вытеснила ситуация Хендрикье. Хаубракен не ошибался, когда писал, что Рембрандт, как и Караваджо, писал живую натурщицу, которую видел перед собой. О чем биограф умолчал, так это о том, что на практике модели позировали Рембрандту в мастерской, превращенной в подобие театральной сцены [174].
Существуют и другие примеры того, как повседневная жизнь мастерской заменяла собой искусство прошлого. Приписывая картинам Рембрандта «фрагментарный» характер (и утверждая тем самым, что фрагмент сюжета, идентифицировать который именно в силу его фрагментарности довольно трудно, замещает всё нарративное, сюжетное действие), один ученый предположил, что Рембрандт писал, «извлекая»