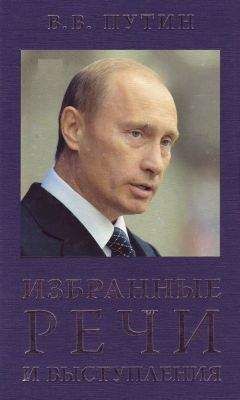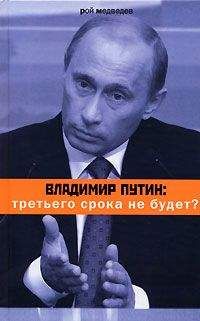Достоевский предпочел не затрагивать ни причин возникновения этой «вилки», ни способов ее устранения, но его сосредоточенность на ней сообщила народности и народному характеру новый творческий импульс, дала возможность заключенному в них индивидуальному, неповторимому, особенному продвинуться вперед, сквозь время.
Лев Толстой, непостижимый русский мужик
«Все, что он делал (хорошее, настоящее, что он делал), - сообщил Л. Толстой в письме к Н. Н. Страхову, узнав о смерти Достоевского, - было такое, что чем больше он делал, тем мне лучше. Искусство вызывает во мне зависть, ум тоже, но дело сердца - только радость» (99). Под «делом сердца» Толстой, конечно же, подразумевал мужика, поставленного Достоевским в «центр мироздания», русский народный характер, осмысленный им в качестве «самой жизни», а не ее «прихотливого привитка». «Я продолжаю работать над тем же, и, кажется, не бесполезно», - заметил Толстой в письме тому же адресату, открыто связав принцип своих художественно-философских исканий с принципом Достоевского «дать народу то, что он хочет» и «восстановить» погибающего русского человека.
Размышляя над драматическими страницами русской истории, эпохой Петра, столкнувшей народное начало с европейской цивилизацией и образованностью господствующего класса, Толстой, подобно Достоевскому, удостоверил: свою национальную, необходимую всему обществу цивилизацию «делает народ». «Читаешь эту историю, - расшифровал он свою мысль, познакомившись с трудом С. Соловьева «История России с древнейших времен», - и невольно приходишь к заключению, что рядом безобразий совершалась история России. Но разве безобразия произвели великое, единое государство? Уж это одно доказывает, что не правительство произвело историю...» (100).
Эгоизму, жестокости, аморальности и безнравственности «просвещенных» хозяев жизни, строящих свое благополучие за счет народа и приобщивших к этому невесть откуда набежавших «цивильных толстобумажников с выпукло-алчными глазами», он противопоставил основательность и отзывчивость «людей земли», их общественный альтруизм, жажду братского согласия и вслед за Достоевским подчеркнул: «Огромный переворот в жизни человечества начнется именно среди нас, среди славянских народов».
Внутренняя правда русского народного жизненного уклада и народный нравственный идеал выступили у него при этом в качестве «жизнеспособного ствола», основы будущего миропорядка. «Почему бы ни начаться решающему судьбы человеческому движению... в истерзанной России? - предположил он, как бы «подключаясь» к прерванной мысли из «Дневника писателя», и, соединив в нераздельное целое народные «данные», констатировал с большой долей уверенности: - Начнись это движение в одном из славянских народов, естественно было бы примкнуть к нему и другим славянским народам. Захвати это движение славянство, и оно неизбежно бы заразило все народы».
Толстой проявил несомненную духовную зоркость, остановив свой взор на перспективных линиях народного характера, выявленных Достоевским в то время, когда многие воспринимали их, мягко говоря, как «блажь», «недоразумение», «платонические вздохи». Однако не это стало его подлинной заслугой, а то, что он занялся исследованием этих «линий» непосредственно на «натуре», на обширном «массиве» самой народной жизни, и исследованием пристрастным.
«Только с мужиками я вполне простой, т.е. настоящий человек», - записал Толстой в своем дневнике в середине 80-х. По сравнению с причастностью к крестьянину Достоевского сдвиг здесь обозначился вроде бы незначительный, прямо-таки едва приметный, но у Толстого сама приобщенность к народному быту оказалась качественно иной, нежели у Достоевского. Земледельцы, мастеровые, ремесленники, солдаты, странники, вошедшие в круг активного внимания Толстого, не только расширили его познания о реальной жизни, но и уточнили художественную сверхзадачу писателя, выработали у него новый творческий угол зрения - более точный и всеобъемлющий. Можно сказать так: ввиду того, что Толстого, как художника, все кровно касалось - судьба голодающих в центральной России и злоключения шестнадцати калужских мужиков, посаженных в острог за «бесписьменность», судопроизводство, «портящее народ», и бедственное положение крестьянского поэта-самоучки Ляпунова, пропадавшего от нужды и хвори, устройство столовых для обездоленных, и трагедия супругов Хилковых, разлученных с детьми, создание общедоступных книжек для народного чтения и повышение цены на торф... - он и сумел глубже всех проникнуть в тайну народной души, соединить личность и народ в некое эпическое целое.
Мужик в народных рассказах Толстого заговорил с барином с той «тонкой, чуть заметной улыбкой», после которой трудно, даже невозможно стало назвать его простодушным. Умирающий Иван Ильич почувствовал себя легче в присутствии Герасима потому, что в его терпеливых ухаживаниях проступила мудрость многовекового народного опыта и бесконечная «правдивость», примиряющая с неизбежным. Вообще, поведение Толстого, высветившего в крестьянском мире многое, включая «подумавшую собаку» и «сообразившую лошадь», явилось мерилом познания русского человека, совмещения видимого с невидимым, живым залогом эпического единства.
Ленин не случайно заметил, что до Толстого в нашей литературе «настоящего мужика не было». Народная мысль художника, вобравшая в себя и шум «народного моря», и опыт предшественников, и его личную внутреннюю связь с «протестом миллионов», выступила опорной, стержневой, придала толстовской картине познания неповторимо своеобразный характер. Платон Каратаев в портретной галерее писателя явился лишь одной из граней многогранной народной натуры. Другие ее стороны нашли воплощение в Тихоне Щербатом, доезжачем Даниле, богучаровских мужиках во главе со старостой Дроном, Карпе («Война и мир»), старике Ермиле, Иване Парменове, Федоре Резунове, Фоканыче («Анна Каренина»), в мужиках из «Фальшивого купона» и «Плодов просвещения», каторжанах, подследственных, виновных и ни в чем не повинных, смирившихся и настроенных на борьбу («Воскресение»)...
Толстовский народный типаж был первоначально воспринят крайне неверно: его истолковали как «невыразительный общий план», рецидивы «непротивленчества», «толстовщины». А. Амфитеатров, например, развенчивал «Войну и мир» потому, что отношение автора к крестьянам представлялось ему неоправданно «равнодушным» (101). В. Фриче видел в образах толстовских мужиков яркое «отражение того умонастроения, которое должно было спасти мятущегося дворянина от его внутреннего беспокойства» (102). В. Шкловский утверждал, что богучаровский бунт «подается традиционно бессмысленно» и повторяет бунт в имении Гринева (103). Эйхенбаум находил Толстого неизменным помещиком, вынужденным «трагически» преклоняться перед мужиками» (104).
Были ли у этих крестьянских «заботников» основания для такого рода суждений? В какой-то мере - да. В статье «Несколько слов по поводу «Войны и мира» Толстой сам дал возможность своим истолкователям рассуждать подобным образом, подчеркнув, что при изображении «характера того времени» не считал возможным рисовать его таким, каким он жил во «всеобщем представлении». Причина? Она в том, что, «изучая письма, дневники, предания», он не нашел всех ужасов народного расслоения большими, чем «находит их теперь или когда-либо».
Степень давления на мужика была всегда примерно одинакова, ибо русский мужик на всех этапах отечественного исторического развития сопротивлялся обстоятельствам, стремился к раскрепощению - вот особенность толстовского взгляда на народный характер, отличающая его от других «взглядов» и не уясненная критикой. То же - и с вопросом крестьянской пассивности, непротивленчества, будто бы опоэтизированных писателем. Толстой, с первых творческих шагов выдвинувший в качестве своего главного кредо народную «целесообразность, добро и правду», подошел к выявлению крестьянских внутренних запросов, мужицкого «поведения» не просто осознанно-диалектически проникновенно. Уже в «Утре помещика» он заставил молодого хозяина Нехлюдова, предложившего беднейшему мужику Чурису переселиться из «черной, смрадной шестиаршинной избенки» в одну из «новых, каменных» изб на новом хуторе, выслушать такую отповедь: «И, батюшка, как можно... Здесь на миру место, место веселое, обычное: и дорога, и пруд тебе... тут искони заведенное, и гумно, и огородишко, и ветлы - вот, что мои родители садили; и дед и батюшка наши здесь богу душу отдали, и мне бы только тут век свой кончить... больше ничего не прошу».
Пришедшего в замешательство Нехлюдова нетрудно понять: ведь его порыв к сотворению добра был исполнен благородства, жажда внесения перемен в крестьянский уклад - искренности и бескорыстия. В упорстве же Чуриса давало о себе знать крестьянское, вековечное: косность, кондовость, привычка плыть по течению...