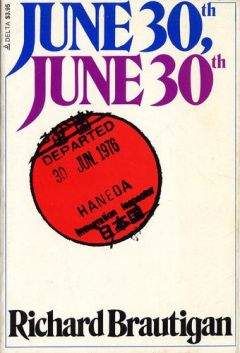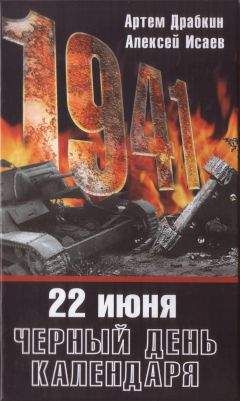В сумерках пошла к штабу - хозяйка говорила, что видела сегодня Павла Васильевича. И чуть лоб в лоб не столкнулась с командиром соединения Сидорским. От него пахнуло самогоном.
- Опять ты! - грозно возмутился полновластный командир человеческих судеб. - По какому праву? Кто разрешил?! Для тебя что, мой приказ не закон?! - И, обернувшись к неотстававшим ни на шаг от главного коммуниста области автоматчикам охраны, приказал. - Ликвидировать!
И пошел не оборачиваясь. Дина остолбенела - она все поняла, но не сразу осознала, что произошло. А как осознать - молодая, здоровая, среди своих партизан, братьев по оружию, с которыми провоевала, не жалея своей жизни, год, и вдруг эти же партизаны и ликвидируют, расстреляют ее - по приказу главного партизанского начальника. Ни за что. Так мы что - враги?
В спину толкнули стволом ППШ. Недоуменно оглянулась.
- Иди! - кивнул незнакомый автоматчик в сторону ближнего леска.
Она шла - и никаких мыслей. Услышали сзади топот, оглянулись. Подбежал ординарец.
- Не надо. Командир отменяет приказ. Это он спьяну...
Хохотнули и ушли, предупредив, что если немедленно не уберется из расположения штаба - второй раз не помилуют. А Дина, прислонившись к березе, опустилась на землю - ноги что-то ослабели.
В семейный отряд вернулась к полудню.
- Предупреждать надо, куда и зачем идешь, если уж отлучаешься из отряда. А по большому счету - спрашивать разрешения! - с раздражением встретил ее Зорин. - Мне и без тебя с дисциплиной проблем хватает.
И в самом деле, хватало. Практически каждый индивидуум в отряде имел свое мнение на что угодно, считал необходимым его публично высказать, в диспуте с кем-нибудь обосновать и доказать его верность. Учитывая, что мнение каждого второго не совпадало, если вообще не оказывалось диаметрально противоположным, с мнением каждого первого, то несложно представить, какая в отряде стояла говорильня.
Ладно - несколько десятков детей. Что с них возьмешь. Они говорят хоть и все вместе, но про свое, детское. И то, как закончили уборку хлебов, всех усадили, образно говоря, за школьные парты - начали школьные занятия. И единственная учительница в отряде занималась с ними по всем предметам всех классов школьной программы.
Ладно - женщины. Эти «трещотки», конечно же, своими бесконечными разговорами любого могут свести с ума. Говорят о чем угодно. О том, как она постирала и высушила белье. О том, что вчера погода была не такая хорошая, как позавчера. О том, что у ее маленького Фимы сегодня почему-то зеленые сопли, а вчера были серые. О том, что Черчиль пьяница и верить ему нельзя. О том, что самое хорошее средство против вшей - постричься наголо и натереть голову толченым чесноком. Что Фаня Васькович сделала за сезон уже пять абортов. А Рива и Бася...
Что сотворили Рива и Бася, Дина не узнала, потому что с ее появлением «кумушки» замолчали и затрещали с новой силой, когда она отошла. О ней, конечно же. Но это все ерунда. Раздражали Дину разговоры мужской, то есть меньшей, части отряда. Впрочем, когда говорили взрослые люди, которым по тридцать, сорок лет, - шут с ними. Они говорили по делу, и там еще можно было услышать немало интересного. Да и говорили они, как правило, во время работы. Чтобы веселей работалось. А молодые ребята - они готовы были трепаться часами. Да все на тему бушующей войны, международных событий, талмуда, забывая обо всем на свете и не выказывая зеленого понятия об исполнительской и воинской дисциплине. Ординарец Зорина Финерсон даже как-то в раздражении избил одну группу таких говорунов. Он несколько раз пробежал мимо их умилительной компашки, направляясь по разным поручениям Зорина. А они все разговаривали. Вот тогда он и приложился, разбив несколько молодых еврейских носов в кровь, и получил выговор за произвол. Но после этого случая Зорин издал приказ: праздно шатающихся по лагерю подвергать трехдневному аресту без пайка.
Но что удивляло Дину, вызывая недоумение: дети, женщины, молодежь, мужчины - все они пережили смертельные ужасы оккупации, геноцида. Их убивали, они бежали из гетто, умирали от голода, выживали, существовали в убожестве неслыханном, как звери, в земляных норах, даже отдаленно не похожих на землянки, но не потеряли жизнелюбия, оптимизма, чувства юмора, оставаясь сами собой - людьми и именно евреями. Они работали, обеспечивали необходимым боевые отряды, учили, лечили, любили.
Наверное, только боевая рота, насчитывающая до семидесяти человек, являла собой, как собственно от нее и требовалось, некое подобие боеспособного воинского подразделения. Здесь достаточно строго проводились построения, осмотр оружия, несение караульной службы, организовывалась проверка постов, осуществлялась разведка окрестности, наблюдение за дорогами. Командовали ротой люди, служившие до войны в армии, а среди рядовых бойцов много было партизан, воевавших в разных отрядах еще с сорок первого, сорок второго года.
Теплым и темным сентябрьским вечером отряд после трудового дня уже спал, а молодежь все еще посиживала у костра. Играла гармошка, высоко взлетали искры костра, а Дина, сидевшая в стороне от всех, вспоминала, как вечерами, когда она жила в Слониме у Софы, ее отец наигрывал на гитаре. Они с Софой в чисто выстиранных платьях пили чай из хороших фарфоровых чашек, слушали романсы или музыкальные импровизации, а ложась спать в чистую постель, Дина думала о жизни партизанской. И мысленно торопила время, мечтая о возможности уйти в лес. Второй год пошел, как она уже здесь, в лесу, и год этот оказался наполненным событиями, жизненными ощущениями больше, чем вся ее предыдущая жизнь разом. И вот теперь она - мать, отлученная от ребенка, жена, которую разлюбили и бросили, партизанка, которую изгнали из боевого отряда, отобрав оружие. Она в свои двадцать два года - вся в прошлом. А сегодня кто она, что она и что может быть у нее в будущем? Два года войны научили Дину не загадывать далеко вперед. Она этого и теперь не делала, но ощущение бессмысленности существования (не дают ведь возможности жить полной мерой, как того требует ее характер, неуемный и бурный темперамент) все чаще посещало ее сознание. И почему-то возникало предчувствие, что надвигающейся зимы она не переживет. Не перенесет неслыханных трудностей, наваливающихся на партизан каждую зиму. Да и зачем? Ради чего или кого? Она уже все в жизни сделала, и жизнь ее больше не нужна. Никому и не для чего.
И так предалась Дина невеселым размышлениям и самоощущениям, что не заметила, как подошел и присел рядом Леня Оппенгеймер.
- Дина, - позвал он. - Там Софа плачет. Не знаю, как успокоить.
- Что с ней?
- Да забеременела. - Так сказал, словно девочке конфетку не дали или она расшибла коленку.
- Что?! А ты как это допустил?
- Что значит «допустил»? - обиделся молодой супруг. - Я, наоборот, хочу, чтоб у нас был ребенок. А она - против. Пошла делать аборт, а аборты запретили.
- Как запретили? Кто?
- Командование соединением. А они, якобы, получили указание из штаба партизанского движения.
- Чушь какая-то. Какое дело штабу партизанского движения до Софкиного аборта? Ничего не понимаю. - Дина решительно поднялась. - Где она?
- В нашем шалаше. - Оппенгеймер тоже встал, собираясь идти с Диной.
- Оставайся здесь, - приказала она и быстро зашагала в темноту.
Софу нашла в шалаше под одеялом.
- Софа, ты тут? - позвала, остановившись у шалаша.
- Да, Дина, заходи, - потерянным голосом наплакавшейся бабы ответила та.
На четвереньках Дина залезла в шалаш, нащупала подругу, легла рядом, щелкнула зажигалкой. Почему-то хотелось увидеть лицо подруги. Блеснувшие в свете огонька большие, немного раскосые темные глаза ее яснее слов говорили: вот перед вами несчастнейшая из женщин.
- И когда рожать? - как можно мягче спросила Дина.
- В марте. Как и прошлый раз. - Дина услышала, что Софа тихо заплакала.
- Ну, тихо, тихо, не плачь. Что за запрет? И Орлинская ничего не может решить?
- Говорит, что не может.
- Я с ней поговорю, - заверила Дина, а сама подумала, что если Орлинская отказывается помочь не кому-нибудь, а Софе, к которой она относится как к родной дочери, приказ, видимо, строго оговорен. - А ты успокойся пока. Сроки еще позволяют. И что ж раньше думала, чего ждала?
- Сама знаешь, как строго в уборку с выходами на работу. Неудобно было пропускать, сама думала - время есть, успею. И сейчас - если б не приказ, можно было б. А теперь. - Софа замолчала, утирая слезы.
- Не плачь, Сонюшка. - Дина, обняв подругу, целовала ее мокрое от слез лицо, гладила как маленькую по голове, сильно прижимала к себе, прямо к сердцу, словно хотела, чтоб бабская ее жалость и участие проникли в душу, в сердце подруги и, может быть, как-то, хоть чуточку, облегчили ее страдания, близкие к отчаянью. И шептала ей что-то ласковое, утешающее, а потом запела колыбельную, которую сама в далеком, кажется, никогда и не существовавшем, счастливом варшавском детстве разучивала, сидя за фортепьяно, - колыбельную Моцарта. И Софа немного успокоилась, согрелась под крылом сильной, энергичной подруги, в которую она всегда верила, и - уснула. А вместе с ней и Дина. Ленька Оппенгеймер подошел среди ночи, посветил, заглянув в шалаш, - спят подруги в обнимку. Постоял рядом, покурил и ушел в караулку.