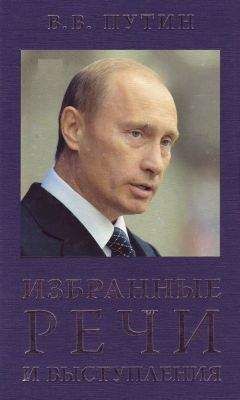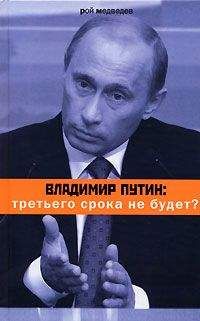Задумав первоначально назвать «Заметки из дневника. Воспоминания», откуда взяты вышеприведенные строки, «Книгой о русских людях, какими они были», писатель так объяснил причину перемены названия: «Но я нашел, что это звучало бы слишком громко. И не вполне определенно чувствовал: хотелось ли мне, чтобы эти люди стали иными?» В самом деле, нужно ли было, чтобы иными стали «матерый человечище» Толстой и мучительно осознавший трагедию отчуждения от народа А. Блок, изумительно собранный, бесстрашный большевик Митя Павлов и непоколебимый, прямодушный, по-русски одаренный Степанов-Скворцов? Нужно ли было, чтобы переменились, освободились от всего «своего» многие другие национальные «типы», воплотившие в себе многовековую историю народа и неуемный порыв к преобразованию действительности? Нужно ли было, наконец, чтобы разнообразные традиционно-духовные связи между людьми поскорее исчезли, растворились, адаптировались?
Горький ответил на эти вопросы конструктивно и ясно. «Надо взять из прошлого все лучшее, все прекрасное, что там есть, и пустить это в широкий оборот»,– очертил он задачу на ближайшее будущее в письме к Д. Семеновскому в 1918 году. Не претендуя на первооткрытие, скажем, что установка писателя на идею преемственности, на способность русского человека «найти в себе суть самого себя, коренное свое...», создавшая для новой литературы некий широкий жизненный фундамент, выступила и весомой нравственно-эстетической величиной, которая в дальнейшем оказалась осознана как народность на вновь утверждающемся, социалистическом этапе жизнеустройства...
К сожалению, эта трезвая, исторически выверенная и животворная народная мысль художника встретила непонимание, даже оппозицию. «Неустранимым болезненным изъяном» представился цикл горьковских рассказов о судьбах русского национального характера Л. Войтоловскому» (114). «Можно было ждать,– отреагировал Луначарский на сокровенно-народную «интеграцию» писателя,– что с победой рабочего класса его любимый автор, Горький, окажется как бы в главном штабе Коммунистической партии, окажется ее виртуозным трубачом... И ничего подобного не произошло» (115).
Как же не произошло? Припомним, что Горький и в первую голову именно Горький явился организатором новой культуры и аккумулятором самых животрепещущих художественных идей, создателем первых произведений, сделавших честь советской литературе, и, как было замечено, «собирателем» героя, показавшего, что коренные социальные перемены обусловливались в России всем ходом жизни, шли из ее первородных глубин. «В... Петербурге героизма, голода, эпидемий, молчания,– читаем, к примеру, в книге К. Федина «Горький среди нас»,– находился один человек, который как будто стоял особняком, но на самом деле был средоточием движения, начинавшего тогда свой рост. Человек этот был Горький».
Неужели Луначарский просмотрел все эти факторы? Неужели не придал значения тем страницам из горьковской «биографии века», где писатель с «документами в руках» доказал революционно-созидательный талант русского человека, которого «дешево не купишь, пустяками не соблазнишь»? Неужели прошел мимо «замешанных на будущем» народных «свойств», воплощенных в центральных характерах очерков о Льве Толстом, В. Короленко, М. Вилонове? Нет, во всем Луначарский разобрался и ничего не пропустил. Однако ему показалось «инерционным» и пристрастным горьковское «шаманское» восприятие общерусского нравственного и гуманистического начала, и гимн великому классическому искусству, сложившийся у писателя в год революции: «Гигант Пушкин – величайшая гордость наша...», он расценил как классово недифференцированный, изобилующий социальными и национальными «вмятинами».
Луначарский явился «мостом», соединяющим Горького с партией, с народом, к такому заключению пришли Н. Трифонов, П. Бугаенко и некоторые другие исследователи, выявлявшие роль первого наркома в творческой судьбе великого писателя. Прозвучало, прямо скажем, не очень складно, но так уж выразились ревнители основоположника советской критики, уподобившие его усилия по «освобождению» Горького от «всесословной растворенности» и «национального староверчества» не взаимопроникающим контактам, а «мосту», переброшенному в одну сторону. Только был ли он, этот «мост», действительно соединяющим? Или под воздействием определенных обстоятельств превращался порой в разъединяющий, дезориентирующий?
В 1918 году, когда Горький, подавленный жестокостью классовых противоречий и бессмысленной, как ему казалось, гибелью русского «массового человека», призвал к осмотрительности, самоограничению «во зле» и перенесению центра тяжести с политики (революция-то победила!) в область культурно-просветительной работы, Луначарский обратился к нему со стихотворным посланием «Горькому». «Мастер мелодрамы», «божественный босяк», заразившийся «премудростью ужиной», «ворон хмурый» – на такой ноте он провел предварительную «профилактику» сознания писателя, мучительно задумавшегося над перипетиями революционного народного движения. И, выразив в финальной строфе надежду на то, что Горький все-таки возвратится «в правый стан», сделал великодушный жест: «Для вас готова брачная одежда, и ждет скамья, и полон ваш стакан...» (116).
В 1919 году «стакан» как элементарный примирительный знак у Луначарского уступил место требованию более сложному и многоаспектному, выдвинутому им к тому же от имени народа. «Наша задача – задача народа,– заявил нарком, выступая с основным докладом на горьковском юбилее,– заключается в том, чтобы направить гениальную руку великого писателя к лире радостной» (117).
Слово это среди других слов, высказанных Луначарским, оказалось, пожалуй, и самым весомым, и самым незабывчивым, ибо в течение последующего десятилетия он и впрямь сделал все, чтобы горьковское внимание было перемещено с «дремучего бытия», с «ветхозаветных фигур» на новые «действительные силовые линии жизни», на человека, обладавшего пусть небольшой, зато «молодой корневой системой». «Аполог этот в наше время гораздо менее уместен, чем в 18 веке... От этих рассказов веет чем-то устарелым», – так Луначарский разобрал горьковскую книгу «Воспоминания» (1923) и «Рассказы 1922-1924 гг.».
Примерно таким же образом – сверху вниз – вгляделся Луначарский и в роман «Дело Артамоновых», вгляделся и установил: характеры людей из народа, несущие в произведении идейную нагрузку (ткачей Морозовых, кочегара Волкова, Тихона Вялова), отдают «отшельничеством», «невежеством», «печенежством» и кажутся «почти жуткими на фоне захватывающих событий, развивающихся на наших глазах». «Нынче такой объективный реализм,– суммировал критик свои наблюдения над «густым, устоявшимся, непоколебимым» в горьковских персонажах, символизирующих идею народного возрождения,– вряд ли показался бы живым даже при обработке современных тем. Примененный же к стародавним временам, он просто начинает пахнуть музеем» (119).
Еще более расширительный смысл критические замечания Луначарского в адрес горьковской народной мысли обрели тогда, когда он решил посвятить молодого читателя в «тайну» взаимоотношений писателя с Лениным. «Его отношения с Лениным свелись почти целиком к длинному ряду жалоб на всякие неустройства. Вот почему Ленин, ввиду чрезвычайной жалости к Горькому, и советовал ему уехать до тех пор, пока все не уладится...– засвидетельствовал критик в «Комсомольской правде», попытавшись стереть грань между «хитровато-суглинистыми» типами, «втиснутыми» писателем в современную литературу, и им самим, как «душеприказчиком» данных типов, и продолжил: – В этих советах было много нежности, много настоящего участия, но ироническая улыбка бродила на устах Ильича, как бывает иногда у старого воина, когда он слышит искушенный голос не нюхавшего пороху...» (120)
Не походили ли эти интерпретации горьковского «поливалентного русского характера» (А. Овчаренко) на рапповские оценки, которые систематизировал и обстоятельно прокомментировал в «Неистовых ревнителях» С. Шешуков? Походили и очень сильно, только у Луначарского все выглядело намного корректнее, выдержаннее, осмотрительнее. Критик мог, например, ошибочно отнести «Фальшивую монету» к «свеженаписанным» произведениям и заявить, что страна в «этой пьесе получает уплату долга фальшивой монетой», а установив истину, тут же снять обвинение, сообщить о своем заблуждении, публично раскаяться (121). И совсем иную картину являли рапповцы, лефовцы, конструктивисты, опоязовцы... Непредумышленно «санкционированные» опрометчивыми суждениями «двигателя пролетарской культуры», они таких «сбоев» никогда не допускали и, воспринимая Горького как «идеолога промежуточных слоев», как «реставратора метафизического национального духа», оставались последовательно непоколебимыми в своем узкоцеховом подходе и категоричными: «Россия – страна уродцев, а Горький – ее поэт» (122).