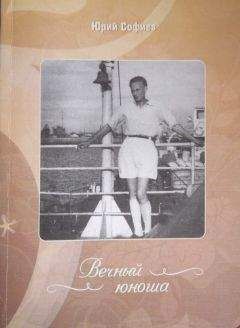После вскрытия выяснилось, что у Парамонова был не рак, ехинокок в печени.
«В силу неодолимого страха перед таинственной сущностью другого, перед чем-то противообычным и житейски ненадежным в его натуре, чему она не смела и не могла подыскать имени и нашла лишь позднее в его же собственном покаянном жалобном признании: «Выродок без цели и покоя», как странно, что этот выродок мог быть таким славным и открытым, таким простодушным…»
Томас Манн, «Лота в Веймаре».
В застенчивый сентябрьский закат
Платаны и осины по каналам
Над Францией чуть слышно шелестят —
Все с жадностью душа моя вобрала.
(Неразборчивая карандашная запись стихов, много раз зачеркнутых, исправленных — Н.Ч.)
4.
Читаю Томаса Манна. Приходят мысли о нашей современной советской литературе. Великое ее преимущество то, что она призвана отражать совершенно новую страницу жизни в истории человечества — эпоху социализма. Новое бытие неизбежно должно породить и новый облик человека.
На нашу долю выпал, конечно, только переходный период. Невольно, еще и еще, приходит на память мысль Сталина, что человеческое, общественное, сознание отстает от уже установившихся новых форм жизни, это приходится наблюдать каждый день. Вырастают, бесспорно, и новые, характерные для нашего времени, противоречия.
Но с другой стороны, нельзя не признать, что у нас необычайно беден и примитивен психологический образ человека, не только нового, но и вообще. Хочется прибавить — по ряду причин. Сложный, живой психологический образ у Леонова, у Шолохова, у Олеши, у К.Паустовского и др. Эренбург великолепен в публицистике и все-таки, уже в силу своей настоящей, большой культуры, менее схематичен, конечно, гораздо более сильнее и в романе, чем великое множество наших средних литераторов… Нечего и говорить, еще хуже обстоит дело, за исключением нескольких имен, с нашей «средней» поэзией.
И я думаю, необычайно важно и полезно, для развития, для расширения кругозора нашего писателя то, что у нас расширено издательство переводной литературы. И еще хорошо, что стали появляться и наши второстепенные «старики» — Эртель, Слепцов, Горин и др.
На днях приобрел Бестужева-Марлинского, я его, откровенно говоря, никогда не читал, даже в юности. А прочитать забавно. Сегодня увидел в ларьке даже В.Немировича-Данченко. Кстати, включена пьеса «Цена жизни» — далекое детское воспоминание: Незлобинекая группа в летнем, курортном Старорусском театре.
… Сегодня Вспомнились мне Пиренеи,
Бискайского залива грозный шум,
Среди движенья образов и дум,
Далекий образ предо мною реет…
1.
Мария! Кудри черные как смоль!
В них синева морская отразилась.
Колеблет память сладостную боль,
Запечатлев навек, любую малость.
Под гул волны я слушал голос твой
Гортанный голос, низкий и горячий.
Потом сияла ночь. Шумел прибой.
Цвели магнолии на белой даче…
И вновь неумолимый зов дорог.
Звенели рельсы или за кормою
Вода бурлила, иль шумел поток
На дне (неразборчиво, может быть, «канала»?), где-то подо мной!
Я многим это сердце отдавал.
Тебя затмить они могли, быть может,
Но никогда я женщин не встречал,
Хоть отдаленно на тебя похожих.
2.
Твой южный край, где дремлют Пиренеи,
Мария! Я навеки полюбил.
Где видно с гор, как океан синеет,
Где эти кудри теплый ветер бил.
За преданность в глазах, полузакрытых,
За теплый шелк доверчивых колен,
За привкус губ, покорных и (неразборчиво),
За неожиданный, блаженных плен —
Спасибо и прощай! Опять свобода
Неугомонную волнует кровь.
Но жадной памятью я сохраню на годы
Свою короткую, ревнивую любовь.
Стал писать я не только посредственные, но просто плохие стихи. Вероятно по ряду, уже личных причин. Думается, что лучшие вещи были написаны в годы 35–47—е. И не могу вылезти из пятистопного ямба. Звучит органически, ритм раздумий. Рифма у меня была всегда бедной. Теперь стала еще беднее, но я и сознательно не придавал этому большого значения. Самое верное с моей точки зрения в поэзии — интонация и то, что мы называем «магией поэзии», магией слова, она вспыхивает и в короткой песне: «Едут с товарами в путь из Касимова Муромским лесом купцы», и у великих поэтов: «Ночь тиха, пустыня внемлет Богу И звезда с звездою говорит…». Перекличка парохода пароходом на реке у Блока.
Да, я родился с жадною душой
К виденьям мира.
Мне судьбою щедрой
Дарован мир пространственно-большой.
Я слушал атлантический прибой,
Внимал молчанию сибирских кедров.
Как густо чертит детская рука
Карандашом по маленькой Европе.
Я эту карту так же исчеркал
Пешком, велосипедом, auto-stop-om.
…Динарских Альп лесистую гряду
Струя колеблет в синеве Скадара…
Из памяти года не украдут
Виденье несказанное — Катарра!
Над Адриатикой кусты мимоз…
Гортанный гул восточного базара…
Волнующий овал, что я унёс
В мою судьбу с полотен Ренуара…
В застенчивый сентябрьский закат
Платаны и осины по каналам
Над Францией, что дрёмно шелестят, —
Всё с жадностью душа моя вбирала.
А яблони в Нормандии в цвету!
Снега в Швейцарии!
Снега в Тироле!
И в эту вязь видений я вплету
Родного Севера ржаное поле…
И я смотрел с взволнованным вниманьем
В тот утренний необычайный час,
Когда диск солнца скрыт ещё от глаз,
Как загораются снега Тянь-Шаня!
И я вдыхал, ружьё сорвав с плеча,
Тот острый запах зверя и полыни!
А у палатки слушал по ночам
Великое безмолвие пустыни…
И все слова на разных языках
В порыве дружеских рукопожатий,
Людскую теплоту в людских сердцах
И простодушное: (неразборчиво) братья!
Я видел мир не в кабинете чинном
И не из книг я образы копил —
Мои слова хранят песок и глина,
Асфальт дорог,
Гранит,
Прибрежный ил.
6 марта, 1959 г.
5.
апрель 1959 г.
Ликующее торжество жизни не может быть пошлостью.
Наткнулся на старые фотографии. Лицо Марианны! (Галльской, Ю.Софиев был серьезно влюблен в нее — Н.Ч.). Начало стихотворения не могу припомнить.
…Я только и помню:
Уплывала платформа
И в пятне световом фонаря
Лицо твое!
Печальное, как осень,
Любимое, прекрасное лицо!
Завтра вечером поезд скорый.
Завтра, кажется, будет среда.
Встанут в окнах озера и горы.
Стук колес «навсегда», «навсегда»!
Неужели же все это было,
Тот, другой, твое сердце сжег!
А ведь было, только и было,
Что однажды сказала: «дружок»!
Да однажды в порыве губы
Прикоснулись к горячему лбу.
В этой жизни прекрасной и грубой
Не мы выбираем судьбу.
Все мне видится, все мне снится
Твое дорогое лицо.
Золотым, ободком круглится.
На пальце, твоем кольцо…
Завтра вечером поезд скорый.
Завтра вечер такой, как всегда!
Встанут в окнах, озера и горы,
Стук колес: «навсегда», «навсегда»!
Монтаржи, 1925 г.
НАТАША ГАБАР
Когда я впервые увидел на одном старинном портрете лицо леди Гамильтон — оно мне показалось невыразимо прелестным, но леди Гамильтон была не англичанкой, а итальянской прачкой, а Стендаль уверял, что нет женщин совершенней по красоте, чем итальянки. В Ницце, а может быть, в Ментоне, я лежал на пляже. К берегу сбежали две девчонки-итальянки, они быстро сбросили ситцевые, достаточно замаранные платьица и я был поражен античной чистотой линий. Тела их были прекрасны.
И еще другое лицо: Наташа Габар. 1927 год. Севр.
Я у Ирины (Кнорринг, будущая жена Ю.Софиева, известная поэтесса русского зарубежья — Н.Ч.). Пришла Наташа. Со своими огромными, очень толстыми, тяжелыми косами. Вечер вместе. Она, кажется, в старшем классе гимназии. Очень тонкое, точеное и необычайно живое лицо. Борис Афанасьевич Подгорный, эрувильский отшельник (в прошлом московский преуспевающий адвокат, купил имение в Эрувиле, где любил принимать русских эмигрантов на лето — Н.Ч.), как-то сказал ей: