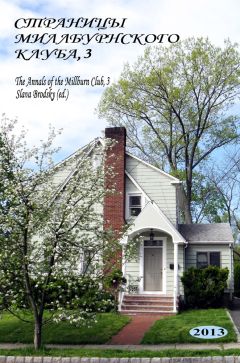При этом Н.С. в своих литературных передачах не сообщала чего-то такого, что не было известно ранее, а ее собственные воззрения были давно установившимися и неизменными. Насколько я могу судить, ее представления о том, что могло быть на самом деле, редко выходили за пределы целомудрия советского разлива. Ей ненавистна была мысль, что Марина Ивановна Цветаева могла испытывать сильные чувства не только к лицам противоположного пола. В ее передачах то и дело мелькали советизмы типа «самодержавный режим», «декабристская эпоха», «вольнолюбивые стихи». Но все это, в сущности, не имело никакого значения, ибо материалом чуда было не то, что Н.С. говорила, а сама Н.С.
Самым удивительным во всем ее облике, во всей ее манере жить было то, что она позволяла себе роскошь не замечать Америку.[2] Когда я говорю «не замечать», это отнюдь не означает, что Н.С. игнорировала страну, в которой ей суждено было прожить остаток своих дней. Напротив, она очень любила Америку и высоко ценила ее исконные начала. Я хочу лишь сказать, что все то, что Америка обычно делает с людьми, в нее приехавшими, неизбежно меняя их на тот или иной американский лад, ее не касалось. Она не только не позволила Америке себя изменить – но, оказавшись здесь помимо своей воли, она намеревалась ни больше ни меньше как изменить саму Америку.
Н.С. решительно отказывалась смириться с тем, что по улицам Нью-Йорка как ни в чем не бывало бродили улыбчивые, добродушные люди всех цветов кожи, которые, однако, никогда не читали Пушкина. Это приводило ее в отчаяние. Она всерьез задавалась вопросом: в чем же истинный смысл жизни, скажем, такого полезного и деятельного человека, каким был бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, если он ничего не слыхал о Пушкине. Н.С. не скрывала своих «прозелитских» намерений в отношении «земли пребывания», хотя и понимала, что ее «миссионерские» возможности весьма ограничены, поскольку она, в сущности, не знала английского языка. Впрочем, это ее не смущало. Высота цели оправдывала недостаток средств. Я был свидетелем одной из «миссионерских атак» Н.С., целью которой была ее темнокожая home-attendant. Н.С. с пафосом говорила ей, указывая на портрет Пушкина: «Pushkin – Russian poet, black ... nigger... hannibal ». Одному Богу известно, что бедная женщина могла вынести из этой «проповеди», не приди я ей на помощь.
Но Н.С. не унывала. Она знала, что в ее арсенале имеется орудие куда более крупного калибра. И вот тут-то на поле битвы выступал ее американский воспитанник Джулиан. Она хотела верить, что переводы Джулиана откроют Пушкина Америке и спасут хотя бы немногих избранных. И тем самым дело ее жизни, особенно после столь коварного поворота судьбы, не останется бесплодным. Было что-то воистину трогательное и даже трагичное в этом ее донкихотстве. Всем памятна ее любимая присказка: «Ох, и попил же он моей кровушки!» Я слышал эту фразу не раз во время их совместной работы над книгой джулиановских переводов из Пушкина «Мой талисман», которая, по замыслу Н.С., призвана была покорить Америку.[3]
Н.С. держала Джулиана, или Джулианчика, как она его ласково называла, от всех отдельно, только для себя, словно любимую дрессированную собачку или диковинную птичку в клетке, ревниво оберегая своего «мальчика» от ненужных, по ее мнению, встреч. Она очень им гордилась и делала все, что было в ее силах, чтобы обеспечить ему русскую карьеру. В этом смысле ее деятельность увенчалась полным успехом. Помню, с какой гордостью она мне рассказала, что известный пушкинист В. С. Непомнящий где-то сказал, что, дескать, раньше все в один голос говорили, что Пушкин непереводим, и потому только одни русские ставят его выше всего, а вот теперь мы имеем переводы Джулиана Лоуэнфельда... Или: «Володя, ты представляешь: Пушкин впервые в Америке на английском языке! Я так счастлива, что дожила до этого дня!»… «Меня все только и спрашивают: Надежда Семеновна, как вам удалось найти и воспитать такого гениального мальчика?» Она очень хотела во все это верить, и, разумеется, зная Н.С. и искренне любя ее и щадя, я никогда не мог при ее жизни позволить себе «крамолу» публичного сомнения в справедливости таких высказываний.[4]
Было что-то болезненное в их отношениях, ибо Н.С. любила Джулиана той самоотверженной и требовательной любовью, которая не оставляла места для «мирного» сосуществования с другими близкими ему людьми. Я часто слышал от нее жалобы и упреки в адрес Джулиана. Она очень страдала от того, что не получала от него и малой доли ответного внимания и тепла. По душевному великодушию, Н.С. склонна была видеть в этом признаки гениальности Джулиана.
«Понимаешь, Володечка, – говорила она мне, – он ведь гений! А гений – это не простой человек. Какой с гения спрос?!» Она заранее готова была простить ему все. Помню, с какой горечью и недоумением она однажды призналась мне, что лишь случайно, в самый последний момент перед публикацией, обнаружила в гранках русской части второго издания «Моего талисмана» исчезновение нескольких строчек, с упоминанием ее имени и посвящения ей всей книги. Увы, у нее были все основания считать, что это не случайный недосмотр.
Впрочем, на публике, когда они появлялись вместе, все обстояло вполне благополучно. Джулиан не переставая рассыпался в комплиментах в адрес Н.С. Он часто называл ее «моя вторая мама». При этом я не помню ни одного случая, чтобы Н.С. на людях назвала Джулиана сыном. Хотя я глубоко убежден, что в сердце своем она питала к нему самые глубокие, истинно материнские чувства, и весь свой огромный нерастраченный дар материнской любви всецело и безусловно отдала одному ему. Было что-то глубоко трагичное в этом их странном, «полупроводниковом» тандеме, ибо Н.С. не понимала по-английски и потому не могла, по существу, видеть то, что происходило на самом деле. О Боже, какая же во всем этом была ирония!
Чтобы покончить с грустными вещами, упомяну еще одну большую область ее жизни, служившую источником постоянных огорчений и слез. Я перехожу к теме России, без которой мой рассказ о Н.С. был бы неполным. И здесь судьба вновь сыграла с ней злую шутку. Уезжала-то она, в свое время, погостить, еще из ельцинской, скажем так, «приемлемой» России, куда и собиралась непременно вернуться, если здоровье позволит.[5] Но с Россией, пока она оставалась в Америке, случилась очередная печальная метаморфоза: она стала вдруг стремительно меняться – увы, в ту самую, еще не забытую, бесноватую сторону, о которой ой как хотелось бы всем поскорее забыть! Я видел, как близко Н.С. принимает к сердцу все то, что там происходит, и предостерегал ее от чрезмерной поглощенности «плохими» новостями. Она назвала меня однажды черствым и бесчувственным человеком в ответ на мои философские разглагольствования – что, дескать, нельзя жить одним негативизмом и что есть еще масса иных, приятных, новостей.
Расскажу об одном, не лишенном занимательности, но и весьма характерном для понимания ее гражданского самочувствия, эпизоде. Как-то я обмолвился Н.С. в телефонном разговоре, что только сейчас, случайно, узнал, что сегодня вечером в одной из православных церквей Нью-Йорка будет проходить заочное (по просьбе вдовы) отпевание Александра Литвиненко, совсем недавно отравленного в Лондоне. Н.С. немедленно сказала: «Я пойду!» Я, признаться, был удивлен ее мгновенной реакции, ибо знал, что Н.С. была глубоко равнодушна ко всяким проявлениям «профессиональной мистики», неважно какого толка. «Володя, я пойду!» – решительно повторила она еще раз. И мы пошли. Там нас, помимо священнослужителя, совершавшего обряд, было всего трое: Н.С., я и еще один человек, приехавший специально для этого из Лондона.
Когда я навестил ее в больнице, примерно за две недели до смерти, она только и говорила, что о крымских новостях.
В заключение хочу взять на себя смелость сказать, что Н.С., невзирая на все превратности судьбы, в глубине души могла искренне считать себя очень счастливым человеком, которому удалось с большой полнотой исполнить свое жизненное предназначение. Дожив до весьма преклонных лет, она совсем не утратила юношеский пыл творческого горения, до самых последних дней обдумывала темы новых радиопередач и работала над своими статьями. Выпавшая на ее долю череда серьезных жизненных испытаний, казалось бы, могла сломить и самого крепкого человека. Но ничего похожего на уныние или горечь скепсиса в ее характере не было. Напротив, все помнят ее чрезвычайно радостным, сердечным, сострадательным, живым и остроумным человеком – человеком, которого искренне любили и ценили очень многие люди по обе стороны океана. Сколько подлинной радости, тепла и самой искренней любви получили мы от нее за эти годы! Хочется верить, что и наша ответная дружба служила для нее истинным утешением и отдохновением от всяческих тяжестей и страданий, которые в изобилии выпали на ее долю.