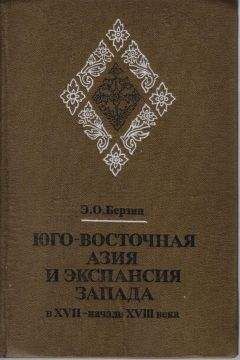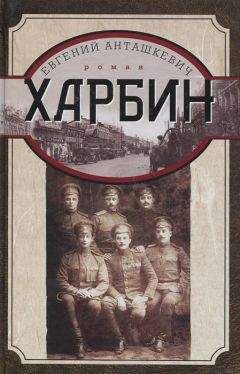– «… И редкий солнца луч, и первые морозы. И отдаленные седой зимы угрозы», – продекламировала она и вдруг залилась веселым смехом. Следом заржали на всю улицу и ее спутники. Что их всех так развеселило, они и сами не знали. Возможно, это сама молодость, бесшабашная и разудалая, наполнила счастьем и восторгом их души. Это у стариков нет причин для смеха, потому что у них уже нет ничего впереди. А у этих еще видны были горизонты. И это подспудно их радовало и заражало страстью жизни. Так молодость, бывает, защищается от всех невзгод, наполняя свои паруса ветром надежды.
Глава девятая
На чужой стороне
1
Прикордонье… Обманчивая тишина. Небо, что те шахтерские сны, – черное и бездонное с едва заметными мерцающими звездами в глубине, похожими на искры затухающего костра, да едва народившимся молодым месяцем, слегка посеребрившим тяжелый ночной небосвод. Холодно. Мороз под сорок. Настоящий январский, какие бывают в этом краю.
Тревожно спит истерзанный недавними ветрами революций город. Из-за тотальной экономии всего и вся электричество на улицах отключено, оттого темень вокруг непроглядная. Иди и бойся, что попадешь в какую-нибудь яму. Оттого ночной ходок идет неторопко и на ощупь, ориентируясь лишь на редкие огни в домах. Под ногами предательски хрустит снег, привлекая к тебе внимание лихих людей, что вышли в поздний час на свой промысел и теперь рыскают повсюду в поисках запоздалых прохожих. Их вряд ли увидишь в темноте – лишь шкурой своей почувствуешь.
Болохову с проводником повезло: до берега они добрались без приключений, если не считать того, что кто-то раза два их окликнул в темноте, испрашивая огоньку, но они-то знали, что это обычный шпанской прием, дабы привязаться к человеку, и потому не остановились. Сюрприз их ждал впереди. Когда они вышли на улицу, примыкавшую к высокому берегу, и уже намеревались спуститься вниз, к спящей подо льдом реке, они услышали за спиной чьи-то торопливые шаги.
Их было трое. Вначале они приняли их за военный патруль, но когда им в грубой форме было предложено остановиться и вывернуть карманы, у Болохова тут же отлегло от сердца. С этой тварью, решил, они как-нибудь справятся – это тебе не казенные штыки. Но те трое, что вздумали их ограбить, оказались не робкого десятка. Встретив сопротивление, они пустили в ход ножи. На счастье, у Федора оказался железный прут, который он на всякий случай взял с собой в дорогу, – он-то и помог им отбиться от бандитов.
Теперь о ночной схватке напоминала лишь резаная рана на щеке Болохова, которую он поначалу не ощутил вгорячах, и лишь когда кровь залила ему лицо, когда он, сняв шерстяную перчатку, дотронулся до щеки и почувствовал, как что-то липкое и тягучее растеклось у него между пальцев, понял, что ранен. Правда, говорить об этом проводнику не стал. А зачем? Пожалеть тот его все равно не пожалеет, разве что посмеется над ним или же выматерит за ротозейство. Вместо этого приложил перчатку к ране – да так и вышел на лед Амура.
К зиме река в этих местах сильно мелела, и на ней появились уходившие далеко к фарватеру косы. По одной из них, Шадринской, они и отправились туда, где за невидимой стеной тальника, притаившись в ночи, тревожно дремал этот загадочный маньчжурский Сахалян. Что это была за коса и откуда у нее взялось это название, Болохов так никогда и не узнает, между тем у нее была своя история.
Жил некогда в Благовещенске богатый промышленник Семен Саввич Шадрин, чья жизнь, по разумению людей знающих, стала образцом служения отечеству и своему родному городу. Больше всего он прославился тем, что внес неоценимый вклад в строительство самого величественного здешнего храма. После отвода благовещенской городской думой в конце XIX столетия участка под строительство Свято-Троицкого собора, о чем ходатайствовал Священный синод православной церкви, именно он первым выразил желание финансировать стройку.
Говорили, что капитал свой Семен Саввич нажил праведным трудом. Подзаработав на золотых приисках деньжат, он выкупил у здешнего купца Першина небольшой заводик и благодаря своим незаурядным способностям сделал из него крупнейшее в городе предприятие со своим жилым рабочим поселком из десятков рубленых домов.
Большую часть своих капиталов Шадрин вложил в строительство Свято-Троицкого храма. Когда храм был готов, то на его же деньги был отлит и завезен в город самый большой на Дальнем Востоке колокол, который православные мужики, осенив себя крестным знамением, под восторженный гул толпы и благословения священников водрузили на колокольню собора. А до того самым большим соборным колоколом считался тот, что принадлежал Благовещенскому кафедральному собору.
Позже рядом с храмом появился женский монастырь, который Семен Саввич построил, исполняя светлое желание любимой супруги Епистолии, и где, согласно завещанию, он ее потом и похоронил. Весь этот комплекс находился рядом с городским кварталом, который в свое время целиком принадлежал Шадриным. Там и дом их был с подворьем.
Всего в нескольких десятках шагов от того места, на Амуре, в мелководье хорошо просматривалась коса, которую благовещенцы прозвали Шадринской. Видимо, потому, что сюда по осени после летней навигации рабочие с помощью нехитрых приспособлений вытаскивали для зимней стоянки и ремонта принадлежавшие Шадрину пароходы и баржи.
Так и осталось в памяти народной то, как богатый промышленник по фамилии Шадрин на свои деньги выстроил прекрасный собор, который чаще называли Шадринским, – в благодарность о деяниях Семена Саввича. Когда Болохов появился в этом городе, собор покуда еще существовал, но пройдет немного времени, и его взорвут вместе с десятками других храмов, после чего Благовещенск навсегда перестанут называть дальневосточным Иерусалимом.
…Хрустит под ногами снег; потревоженные, разлетаются в стороны мелкие льдинки, издавая звук, похожий на звук битого стекла. Все это пугает Болохова, у которого и без того нервы напряжены до предела. Ведь не на блины к теще идет – в логово врага. Что там? Как там? Вернется ли он живым и невредимым домой? О, он наслышан про пытки этих китайцев… У тех, говорят, жизнь человеческая ничего не стоит, так что могут и шкуру с тебя содрать, как с того барана, а могут еще и ослепить и оскопить… Одним словом, азиаты!
Впрочем, и его соотечественники от них недалеко ушли. В Гражданскую, когда случился этот великий раскол России, уж они показали, на что способен человек, когда он лишается рассудка. Их орды шли навстречу друг другу, словно саранча, истребляя все на своем пути. Они грабили, жгли города и села, насиловали женщин, вешали, расстреливали, зарывали людей живыми в землю… Казалось, то дьявол восстал против Господа, собрав под свои знамена тех, кто, подобно Каину, был готов убивать своих братьев и сестер. Забыли разом все заповеди Господни и убивали. Даже те убивали, кто называл себя верующими. Выходит, не было в них веры – иначе бы разве творили такое? А может, считали, что Бог им все простит?.. А простит ли?
Болохов помнил, как их красный эскадрон с шашками наголо врывался в занятые белыми села, неся смерть всему живому. Даже стариков, даже женщин с малыми детьми, случалось, не жалели. Так было на Орловщине и Тамбовщине, так было в Поволжье и на Урале… Помнит он и то, как, сопровождая продотрядовские обозы, они, голодные и злые, рыскали по сибирским деревням, добывая хлеб для Красной армии. Коль надо было – силой отбирали зерно у крестьян. Кто сопротивлялся – тому штык в бок или шашкой по черепу. После них приходили белые, и картина повторялась. Виселицы, тысячи безымянных могил, сожженные селения, руины вместо городов… И так по всей земле русской. Все, все погрязли в грехах! И самое главное, не понимали, что грешат. А это, говорят, самый великий грех, когда не понимаешь, что грешен…
Что и говорить, войны всегда начинаются под фанфары и праведные речи, но вот заканчиваются, как правило, дикостью и варварством. Это и понятно. Ведь война – это не ремесло, даже не обусловленная необходимость. Это болезнь человеческая, при этом болезнь душевная, вызванная первобытным чувством вседозволенности. А разве для душевнобольных существуют законы? Но все теперь почему-то пытаются оправдать свои смертные грехи исторической необходимостью. И Болохов тоже хотел оправдаться, если не перед Богом, в которого он никогда не верил, то хотя бы перед историей. Не получалось. Потому как с некоторых пор ему все чаще и чаще стали являться во сне образы тех, кого он когда-то лишил жизни. Таких было много, и они не давали ему покоя, поселившись в его мозгу. Кто-то из них винил его в жестокости и проклинал, кто-то молил о пощаде. Ему бы просить прощения у них, а он и во сне продолжал проявлять революционную решительность. Как будто кто наслал на него порчу, отравив его кровь вечной ненавистью. Одних, как и прежде, он продолжал убивать в бою, других по приказу трибунала ставил к стенке, третьих душил в своей постели… Он бы, наверное, сошел от всего этого с ума, если бы не служебная рутина, которая ни на минуту не давала ему расслабиться.