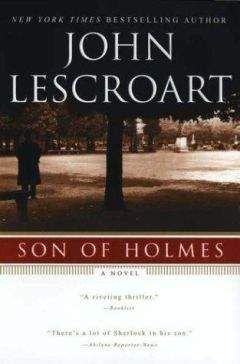слабы в плане пропорций. Но взамен зритель перехватывает (подслушивает) диалоги между разнесенными в пространстве частями тел, и эти диалоги столь верно передают телесный опыт, что находят отклик у каждого. Рядом с произведениями Рембрандта тело зрителя вспоминает собственный внутренний опыт.
Интерпретаторы не раз подчеркивали «внутренний характер» рембрандтовских образов. Но тем не менее эти образы – полная противоположность иконописи. Они по сути своей телесные, плотские. Плоть «Освежеванного быка» – не исключение, а типичный пример. «Внутренний характер» рембрандтовских образов тоже оказывается телесным: это то «внутреннее», которого стремятся достичь любовники в процессе своего, так сказать, взаимодействия. В таком контексте «взаимодействие» приобретает одновременно и буквальное и поэтическое значение – общий смысл колеблется между ними.
Примерно в половине шедевров Рембрандта (за вычетом портретов) запечатлен некий предваряющий жест: герой или героиня разводит руки для объятия. Таковы «Блудный сын», «Иаков и ангел», «Даная», «Давид и Авессалом», «Еврейская невеста»…
Ничего подобного не встретишь в творчестве другого художника. У Рубенса, например, есть множество персонажей, которых трогают, хватают, несут на руках, тащат за собой, но почти нет соединившихся в объятии. Ни у кого другого объятие не занимает столь важного места. У Рембрандта объятия иногда сексуальны, а иногда нет. В соединении двух тел скрыто не только желание, но и прощение или вера. В «Иакове и ангеле» (Берлин) можно увидеть и то, и другое, и третье – и все это нераздельно.
Общественные больницы, возникшие еще в Средние века, назывались во Франции «божьими домами» – Hôtels-Dieu. В этих богоугодных местах больной или умирающий мог получить крышу над головой и уход. Но не будем идеализировать. В Париже во время чумы «божий дом» был так переполнен, что на койках «лежали по трое: больной, умирающий и мертвец».
По-разному интерпретируемое понятие «божий дом» может быть полезно для понимания Рембрандта. Ключ к его мировидению, сместившему классическое пространство, – это Новый Завет. «…Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем… Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаём из того, что Он дал нам от Духа Своего» (1 Ин. 4: 16, 13).
«Он в нас». Что обнаружит эскулап во вскрытом теле человека – это одно. А что этот человек искал – совсем другое. «Божий дом» может также означать и тело, в котором пребывает Бог. В невероятных, трагических поздних автопортретах Рембрандт, всматриваясь в собственное лицо, жаждет узреть Бога, хорошо зная, что Он невидим.
Когда он свободно писал тех, кого любил или кого воображал, с кем чувствовал душевную близость, он пытался войти в их телесное пространство – каким оно было именно в этот момент: пытался войти в их «божий дом». И таким образом отыскать выход из тьмы.
Стоя перед маленькой картиной «Женщина, входящая в реку» (Лондон), мы оказываемся там, с ней, – мы в подобранном подоле ее сорочки. Нет, мы не вуайеристы. Не развратники вроде старцев, подглядывающих за Сусанной. Просто нежность его любви манит нас вселиться в ее телесное пространство.
Для Рембрандта объятие было, возможно, синонимом акта творчества; и то, и другое – здешняя, земная сторона молитвы, не больше и не меньше.
* * *
Странно, почему историки искусства, пытаясь датировать полотно, подчас уделяют столько внимания его «стилю», разным описям, счетам, аукционным спискам и так мало – запечатленному на полотне свидетельству о возрасте модели. Они словно бы не доверяют художнику в этом вопросе. Так происходит, например, когда искусствоведы стараются расположить в хронологическом порядке рембрандтовские картины, на которых изображена Хендрикье Стоффельс. Ни один художник не разбирался в процессах старения лучше, чем Рембрандт, и ни один не оставил нам более личного свидетельства о великой любви своей жизни. Что бы там ни позволяли допустить документы, картины ясно дают понять, что любовь Рембрандта и Хендрикье длилась около двадцати лет, вплоть до ее смерти за шесть лет до кончины художника.
Она была на десять или двенадцать лет моложе его. В момент смерти ей было, если верить свидетельствам картин, по меньшей мере сорок пять, а когда он впервые нарисовал ее – не больше двадцати семи. Их дочь, Корнелию, крестили в 1654 году. Значит, Хендрикье родила ребенка, когда ей было около тридцати пяти.
«Женщина в постели» (Эдинбург) была написана, по моим расчетам, чуть раньше или чуть позже рождения Корнелии. Историки предполагают, что это может быть фрагмент большого полотна, представляющего брачную ночь Сары и Товии. Библейские сюжеты для Рембрандта всегда были современны. Если это фрагмент, то Рембрандт явно завершил его, чтобы оставить потомству как наиболее интимное изображение любимой женщины.
Есть и другие изображения Хендрикье. Глядя на «Вирсавию» в Лувре или на «Женщину, входящую в реку» в лондонской Национальной галерее, я теряю дар речи. Не потому, что в меня вселяется их гений, а потому, что опыт, из которого они черпают и который выражают, – желание, ощущающее себя древним как мир; нежность, ощущающая себя как конец мироздания; взгляд, снова и снова, как в первый раз, открывающий для себя знакомое тело, – все это не может быть выражено словами. Ни одно полотно не подводит так искусно и властно к молчанию. Однако на обеих картинах Хендрикье поглощена собой. В устремленном на нее взгляде художника чувствуется огромная любовь, но взаимной любви между ними нет. Эти картины говорят: он любит ее, а не она его.
«Женщина в постели» говорит о некоем уговоре между героиней и художником. Он включает в себя сдержанность и страстность, день и ночь. Полог на кровати, который поднимает рука Хендрикье, указывает на границу дневного и ночного времени.
Спустя два года, при свете дня, Рембрандта объявят несостоятельным должником. А десятью годами раньше, тоже при свете дня, Хендрикье пришла в дом Рембрандта в качестве няньки его маленького сына. По понятиям господствовавшего в Голландии XVII века кальвинизма и правилам жизни домоправительница и художник имели совершенно разные, четко разграниченные сферы ответственности. Отсюда – сдержанность.
Ночью они оставляют свой век.
Ожерелье покоится на ее груди,
И между ними медлит —
хотя разве медлит,
а не вторгается неотвратимо? —
Сладкий аромат вечности.
Запах древний, как сон,
знакомый и живым, и мертвым.
Приподнявшись на подушках, Хендрикье отводит полог тыльной стороной ладони, поскольку сама ладонь уже готова – уже делает подготовительный жест, – готова коснуться его головы.
Она не спала. Ее взгляд следует за ним, следит за его приближением. В ее лице они двое воссоединены. И теперь невозможно разделить два образа: образ Хендрикье в