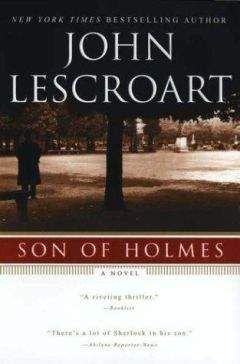Я представляю, что еду из Калиша в Кельце 150 лет назад. Между этими двумя именами тогда непременно присутствовало бы и третье – кличка вашей лошади. Как константа среди меняющихся названий городов, к которым вы подъезжаете и которые покидаете.
Я вижу знак – дорога на Тарнув уходит к югу. В конце XIX века Абрахам Бредиус, составитель первого современного каталога произведений Рембрандта, обнаружил в здешнем замке ранее неизвестную картину.
«Увидев, как мимо моей гостиницы промчалась карета, запряженная четверкой великолепных лошадей, я спросил у швейцара, кто бы это мог быть, и получил ответ – граф Тарновский: несколько дней назад он обручился с восхитительной графиней Потоцкой, которая к тому же принесла ему изрядное приданое. Тогда мне было невдомек, что счастливец еще и обладает одним из величайших творений нашего прославленного мастера».
Бредиус покинул гостиницу, проделал длинное и трудное путешествие на поезде (он жаловался, что поезд тащился с черепашьей скоростью, еле одолевая милю за милей) и прибыл наконец в графский замок. Там он и обнаружил полотно с изображением всадника на лошади. Бредиус без колебаний атрибутировал его Рембрандту и объявил шедевром, который на протяжении целого столетия пребывал в безвестности. Картина получила название «Польский всадник».
Сегодня нельзя сказать наверняка, кто и что изображено на полотне. Одежда всадника типично польская – кунтуш. Польского происхождения и головной убор. Вероятно, по этой причине картина была куплена в Амстердаме польским аристократом и привезена в Польшу в конце XVIII века. Когда я впервые увидел картину в галерее Фрика в Нью-Йорке, куда она в конце концов попала, я подумал, что это мог быть портрет любимого сына Рембрандта – Титуса. Мне показалось – и кажется до сих пор, – что картина написана на тему возвращения домой.
Согласно более научной версии, идею картины мог подсказать поляк Ионас (Иона) Шлихтинг, который в годы жизни Рембрандта в Амстердаме пользовался известностью в кругу инакомыслящих как герой-повстанец. Шлихтинг принадлежал к секте последователей сиенского теолога XVI века Лелио Соццини, [58] отрицавшего, что Христос – Сын Божий, ибо в противном случае религия перестает быть монотеистической. Если картина действительно вдохновлена Ионасом Шлихтингом, то изображенный на ней уподоблен Христу: это человек, и только человек, всадник, смельчак, выступивший в поход навстречу своей судьбе.
– Надеешься оторваться, думаешь, не догоню? – спрашивает она, останавливаясь возле меня на первом светофоре в Кельце.
Я замечаю, что она ведет машину, скинув туфли, – жмет на педали голыми ступнями.
– Об этом не может быть и речи, – говорю я, выпрямляя спину и ставя ноги за асфальт.
– Зачем же так мчаться?
Я не отвечаю, потому что она и так знает ответ.
В скорости есть забытая нежность. Когда она вела машину, у нее была привычка снимать правую руку с руля, чтобы видеть показания приборов на панели, не делая ни малейшего движения головой. И этот маленький жест руки чист и точен, как у великого дирижера, управляющего оркестром. Мне нравилась ее уверенность.
При ее жизни я звал ее Лиз, а она меня – Мет. Ей нравилось откликаться на Лиз, поскольку всю свою жизнь, вплоть до того момента, она ни за что не отозвалась бы на столь вульгарное сокращение. Короткое «Лиз» нарушало некий закон, а она обожала нарушать законы.
Мет – имя штурмана в романе Сент-Экзюпери. Кажется, в «Ночном полете». Она была гораздо начитанней меня, а у меня было больше жизненного опыта, – наверное, поэтому она дала мне прозвище в честь штурмана. Мысль звать меня Метом пришла ей во время автомобильного путешествия по Калабрии. Всякий раз, когда мы выходили из машины, она надевала шляпу с широкими полями. Ненавидела загар. Кожа у нее была бледная, как у членов испанской королевской семьи во времена Веласкеса.
Что свело нас вместе? Простой ответ лежит на поверхности – любопытство: у нас все, начиная с возраста, было разительно несхоже. У нас многое было «впервые». Но если копнуть глубже, то нас свело знакомое нам обоим невысказанное чувство тоски. Оно ничего общего не имеет с жалостью к себе. Если бы она заметила во мне хоть крупицу чего-то подобного, то выжгла бы ее каленым железом. А мне, как я уже сказал, нравилась ее уверенность, несовместимая с жалостью к себе. Тоска – это другое. Вы когда-нибудь слышали, как воет на луну собака?
Мы с ней оба, хотя и по разным причинам, полагали, что удержать надежду можно, если жить стильно. Вообще говоря, ты либо живешь с надеждой, либо впадаешь в отчаяние, третьего не дано.
Стильно – это как? Слегка беспечно. Не забывая о стыде, что заставляет исключать некоторые поступки и реакции. С намеком на элегантность. Как бы подразумевая, что, вопреки всему, мелодия звучит и время от времени ее можно расслышать. Впрочем, стиль – штука тонкая. Он идет изнутри. Его извне не приобретешь. Стиль и мода могут иметь в основе общую мечту, но созданы они по-разному. В стиле есть невидимое обещание. Вот почему он требует – и способствует развитию – таких качеств, как выносливость и легкость в обращении со временем. Стиль очень близок к музыке.
Мы проводили вечера, молча слушая Бартока, Уолтона, Бриттена, Шостаковича, Шопена, Бетховена. Сотни вечеров. Это было время пластинок на 33 оборота в минуту, и переворачивать их приходилось вручную. Момент, когда переворачиваешь пластинку и осторожно опускаешь на нее головку звукоснимателя с алмазной иглой, – это был момент доходящей до галлюцинаций полноты бытия, благодарности и предвкушения, сравнимый только с теми моментами – тоже бессловесными, – когда один из нас гарцевал на другом в любовном акте.
Ну ладно, откуда тоска, откуда этот вой на луну? Стиль идет изнутри, но он вынужден заимствовать уверенность из других времен и затем одалживать ее настоящему; заимствуя, ты должен оставить этому другому времени какой-то залог. Страстное настоящее всегда слишком коротко для стиля. Лиз, истинная аристократка, заимствовала из прошлого, а я – из революционного будущего.
Наши два стиля, как ни странно, были очень близки. Я не думаю сейчас о внешних атрибутах жизни или названиях брендов. Я припоминаю, как мы под дождем гуляли по лесу, насквозь промокшие, или как выходили из поезда на миланском центральном вокзале в предрассветные часы. Очень, очень близки.
Но когда мы заглядывали друг другу в глаза, не страшась опасности, хотя прекрасно знали о ней, то оба понимали, что заимствование времени – это химера. Вот откуда собачья тоска и вой на луну.
* * *
На светофоре зажегся зеленый. Я обгоняю ее, она следует за мной. Когда Кельце